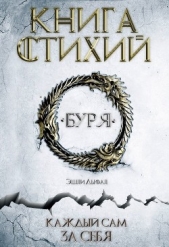Буря
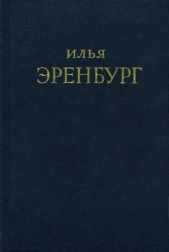
Буря читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Эти не сдавались, вроде того генерала. Был беспорядок, понятно. Немцы сколько к этому готовились… А теперь ничего, держимся. Я вас все-таки не понимаю, ваш президент замечательно выступал, вы, в некотором роде, союзник — и вдруг такое ляпаете. Хорошо, что на меня напали. Другой мог бы обидеться. Рано панихиду заказываете. Не верите, что мы их расколотим?
Они поменялись ролями: теперь нужно было отвечать Билу. Ему не хотелось кривить душой: этот доктор злил его, и вместе с тем он ему нравился своей прямотой.
— Я думаю, что в конечном счете они проиграют. Ведь Россия — это только эпизод. Были другие эпизоды — Польша, Франция. Я беру худшее — немцы после вас займут Англию. Все равно останется Америка. С нами они ничего не смогут сделать. Мы будем работать десять лет, двадцать, и в итоге мы их побьем.
Он оглядел полутемный госпиталь; его глаза снова встретились с глазами раненых, он тихо добавил:
— Мы вас выручим…
Жалко, что нельзя его обругать, подумал Крылов. Хитрая штука эта дипломатия, еще испорчу дело, пусть хоть простыни пришлют. Он протянул руку гостю:
— Мне нужно заняться больными. Желаю счастливого возвращения на родину.
Все же он не удержался:
— А кто кого выручит, это мы посмотрим.
Бил отправил из Тегерана одиннадцать длинных корреспонденций. Описал он и встречу с Крыловым:
«Это самородок, русский медведь, который говорит на языке Шекспира, мужик, умеющий обращаться с ланцетом. Как все русские, он, конечно, мистик. Он понимает, что поражение неизбежно, но верит в победу. Русские верят с такой же легкостью, с какой американцы курят или пьют кофе. Разговаривая с Крыловым, я понял тайну русского фанатизма: не избалованные жизнью, эти люди спокойно встречают смерть. Доктор и его раненые могут легко умереть, потому что они тяжело жили, а может быть и просто не жили…»
После того как американец ушел, привезли почту. Крылову было письмо от жены:
«Дорогой Митя! У меня все по-старому. Главные новости касаются Наташи, ты напрасно волновался, она жива, здорова и сейчас со мной. Из Рязани она попала на фронт, говорит, что оттуда два раза тебе написала, но понятно, что ты не получил — у нее был старый номер полевой почты, а ко мне письмо пропало. На фронте она была всего три недели, ее отправили, потому что она ждет ребенка, она теперь на шестом месяце. От Васи никаких известий. Нина Георгиевна пишет, что тоже ничего не знает, я запрашивала наркомат, нет ответа. Наташа внешне переживает спокойно, но я знаю, как девочка мучается, пока она была там, ей было легче. Она осунулась, но работает здесь в госпитале, вообще держится хорошо. Я организовала пункт на вокзале для обслуживания военных, работы много и все ночная. Думаем о тебе и о Москве. Будь здоров, дорогой!»
Дмитрий Алексеевич прочитал и громко высморкался. Жалко Наташу!.. Всех жалко. И кто это придумал?.. Сидят, изобретают средство от насморка. А потом не угодно ли — осколочные, фугасные, полный ассортимент… Счастья-то все хотят. Как Наташка радовалась, что едет в Минск! И почему нужно сначала всадить в кишки железо, а потом его оттуда вытаскивать?.. Он снова высморкался и вдруг набросился на себя: это что за слюнтяйство? Можно подумать, что я неграмотный, не знаю, откуда фашисты. Побить их нужно, а не философствовать. А все из-за американца, это он меня расстроил. Ну, не воюют, смотрят, прикидывают, их дело, но, кажется, к людям попал — видит, народ обливается кровью, а такому хоть бы что, подавай ему сенсации. «Поглядите на вечную ручку — новая система…» А что он напишет своей ручкой? Низкая душонка… Пора к больным, Дмитрий Алексеевич, вот что!
18
Они залегли на опушке леса. Пятый день держатся. А сколько перед этим отходили!.. Лукутин смутно припоминал названия деревень, черный дым над дорогой, исковерканные рельсы. Шли, и не туда, куда хотелось, окапывались, стреляли и снова отходили. Мало осталось из тех, кто в летний, душный день, вместе с Лукутиным, шагал по переулкам Замоскворечья. Жаров, Слепников, Коровин, Кац. Еще Миша. Очень мало! Под Вязьмой остались, под Гжатском… Потом отвели, направили в другой полк, и направление было другое, и отступали, опять отступали. Клин. Солнечногорск. И вот зацепились.
Лукутин представил себе этот лес летом. Земляника, тень, папоротник, девушки аукают. В выходной приезжали. Какой-нибудь папаша в толстовке, расположившись поудобнее, читал старую «вечорку», мамаша собирала сыроежки, а дети обламывали орешник. Прежде Лукутин не любил людных мест, увидав пригородный лесок, где яичной скорлупы и газетных листов, кажется, больше, чем листьев и травы, он морщился; а теперь он вспомнил такой воскресный день как прекрасную феерию. Неужели не увижу?..
Я сюда часто ездил в тридцать девятом, нет, в тридцать восьмом. Здесь летом жили Снегиревы. Значит, Москва совсем близко… где кончается лес, дачи. Занятно — идешь, в саду люди пьют чай, развлекаются — жизнь, как в витрине… Но до чего это близко, страшно подумать! Еще немного — и Химки, а там Сокол. Прежде был Петровский парк, считалось, что за городом. Москва очень разрослась.
Он стал думать о Москве, и его детство переплеталось с детством Поленьки, неожиданно выплывали события, лица, слова. О таких минутах говорят «человек вспоминает», но вспоминать можно по-разному, как разные находят облака — то перистые, то вязкие, густые. Воспоминания могут походить на раскопки, на книгу, где главы, страницы, примечания; на пласты горной породы, на горсть песку. Воспоминания Лукутина были запутанным клубком. Началось со слова «Сокол». Пошли названия улиц, переулков. Он обязательно хотел вспомнить, как прежде называли, как теперь. Глинищевский — это улица Немировича-Данченко. А как теперь Мертвый?.. Не помню… Странные имена, домашние — Собачья площадка, Дорогомилово, Зацепа… Хорошо, что зацепились! Федосеев говорил: «зубами в землю вцепимся». Его похоронили возле Уварова, там камень и буква «Ф». Он работал на «Шарикоподшипнике». Это далеко от центра. Какой туда трамвай идет? Не помню… ничего не помню… Теперь строят метро до завода Сталина. Симонов монастырь… Говорили, что в том пруду утопилась карамзинская Лиза. А толстовская Наташа жила на улице Воровского, там, кажется, Союз писателей. Это когда я повел Поленьку в Зоопарк… Ей очень понравились медвежата, а когда слона увидела, крикнула «Дядя Петя». У Пети, правда, длинный нос. Он теперь в артиллерии. Артиллеристы — молодцы, сколько раз выручали! Бесстрашные… Сейчас здорово бьют, еще сильнее, чем утром. У них традиции… Забавно — как стреляли из царь-пушки? А Кремль красивый, такого нигде нет, это не Византия, не Италия, другое, свое — чистота, большая ясность. Москва старая, так и говорят «не вдруг строилась»… Сколько такому дереву лет? Отец сразу сказал бы. Наверно, много. Росло, мерзло, опадало, зеленело, а сейчас может погибнуть, как человек, — снаряд, и готово. У них все перелеты. Наши-то как бьют, и это весь день, наверно, пришли подкрепления. Здесь ничего не знают, но, кажется, зацепились всерьез. Нельзя иначе — Москва. Они листовки сбросили — пишут, что смотрят на Москву. Может быть, и видно в бинокль… У мамы был смешной бинокль — из перламутра, как раковина. Меня взяли на балет. Что тогда шло? «Спящая красавица»? Не помню. Я не понимал, куда проваливаются в люки, спрашивал, а мама стеснялась. Я был тогда в приготовительном, очень гордился формой. Напротив гимназии был сквер. Восемь лет жизни связаны с этим сквером. Надя нашла в сирени три, а искала пять, сказала, что будет несчастная, я начал говорить, что есть счастье, и вдруг убежал. Сколько мне было тогда лет? Пятнадцать. Или шестнадцать. Да и потом бывало так же — не умел сказать о главном… Вот и стемнело. Дни стали куцые, понятно — декабрь. Не успеешь поглядеть — и темно. Так все — не успеешь достроить, долюбить, дожить… Я здесь самый старый. А Жарову девятнадцать. Когда сказали, что наши отбили Ростов, он захлопал в ладоши, как мальчик. Это большое дело — Ростов. Они обязательно хотят взять Москву, ведь как лезут… Ужасно, что так близко! Но не возьмут, теперь повсюду зацепились. Миша говорил, что в Москве идеальный порядок и следа нет паники. Взглянуть бы одним глазком! Наверно, Москва другая… Вчера Миша разговаривал с пленным. Немец спросил, где Сталин. Миша ответил — на своем КП, в Москве. Не поверил… Поглупели они, трудно себе представить — Гете, Фихте, Гегель, как-то не вяжется… Был бы Рихтер умнее, он иначе со мною говорил бы. Может быть, он где-нибудь здесь, берет Москву? Почему нет? Вот кого бы прикончить!.. Полгода назад не думал, что захочу убивать, это мне было непонятно. Может быть, я озверел? Нет, и отец взял бы ружье. Думаю, даже Толстой не выдержал бы. Ведь они не только глупы, они жестокие, убивают детей. Хорошо, что Поленька далеко… Если меня убьют, она забудет отца — слишком маленькая. А Катя ей не расскажет, это я знаю. Ага, теперь пристрелялись… Чорт знает, какой здесь ад! Интересно — потом опишет это кто-нибудь или нет? Да дело не в описаниях… Как там Поленька? Катя даже не написала, теплая ли у них комната… А счастье все-таки было, это неправда, что мелькает, и все. Одно то, что есть Поленька, это огромное счастье. Была работа. На бумаге это только чертежи, цифры, а я переживал каждый корпус. Обидно, что не удалось ничего построить в Москве. Я никогда не думал, люблю ли Москву, говорил — Ленинград красивее, только теперь чувствую, какая это любовь к каждой улице, к каждому дому. А дома — это люди…