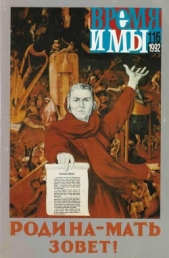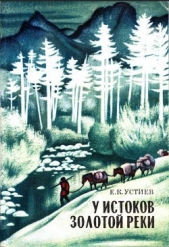К Колыме приговоренные

К Колыме приговоренные читать книгу онлайн
Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никите с большим трудом удалось предотвратить драку, а Зубарь, когда они вышли из кафе, всё ещё кричал:
— Да я этого падлу!
Его трясло, глаза зло горели, а лицо снова обрело бычье выражение. «Вот так и новые сроки получают, — подумал Никита. — Ведь ударь он плюгавенького, побежит этот подлец в милицию, а там — понятно: «Зубарь?! Рецидивист?! Ну, так одна тебе и дорога».
Дома дядя Валя, расстроенный, сидел за столом, а тётя Лена лежала в постели.
— Ноги, — кивнул он в её сторону, — полиартрит, будь он неладный.
Услышав, что пришёл Никита, тётя Лена, поднявшись с постели, стала объяснять, что и где приготовлено на ужин.
— Да лежи ты, лежи, — сказал ей дядя Валя и стал собирать на стол.
Когда дядя Валя узнал, что Никита ходил в тюрьму, он вздохнул и сказал:
— Памятник матери поставил. Как-нибудь сходим.
Дней через пять Никита встретил Зубаря, и они договорились сходить на кладбище к могилам Скувылдиной и Лолы. Узнав от него, что похоронены они рядом, а на могилах нет оградок и деревянные надгробия погнили, Никита через дядю Валю заказал в экспедиции одну для них большую оградку и два сварных памятника. Ставить их увязался за ними дядя Егор. Похоже, и правда, с головой у него было не ладно, но Никиту он узнал.
— Ишшо бы забыть! — сказал он. — Вдвоях Тётку ловили.
Ставили оградку и памятники Никита с Зубарем, а дядя Егор им только мешал.
— Знаменье мне такое вышло, — говорил он, сидя у разложенного недалеко костра, — андел из земли вышел, скоро помряши, сказал. — Вздохнув и уставившись бессмысленным взглядом в небо, продолжал: — А хоша бы и так! Бояться онной — враз скопытисся. Эй, сынки! — закричал он Никите с Зубарем, — а игде она, энта, как её?
— Дурака валяет, — заметил Зубарь, — водки захотел.
Выпив водки, дядя Егор стал пугать их Туркестаном. Оказывается, в нём, как он говорил, всех порубят турецкими ятаганами, но сначала люди будут есть человечину, потому что другого у них ничего не будет. А потом уже тех, кто останется, будет заедать вошь и большая, с лошадь, саранча. Когда же все погибнут, появятся новые люди о семи пальцах на руках и ногах, и с железными, как у рыцарей, головами.
— Туды им и дорога! — кричал дядя Егор, видимо, имея в виду тех, кто погиб от вшей и саранчи. — Сами себя, паскуды, закопамши!
Вскоре, притулившись к чужому памятнику, дядя Егор уснул, а Никита с Зубарем, поставив оградку и памятники на могилы Скувылдиной и Лолы, сели их помянуть. Кругом было тихо, внизу, за кладбищем, в косых лучах заходящего солнца ярким светом играли верхушки уже пожелтевших тополей, выше, в малиновых всполохах краснотала и густой зелени стланика поднимались в небо сопки, пахло хвоёй и разлагавшимся опадом. Всё говорило о том, что природа в увядании своём полна здоровых сил и светлой надежды на своё будущее. «Боже мой, — думал Никита, — ведь всё создано для жизни: радуйся, бери, что надо! Так почему же так всё плохо, отчего ни у кого ничего не ладится?»
Зима Никите показалась такой длинной, что иногда хотелось плюнуть на всё и бежать с этой Колымы, куда глаза глядят. В экспедиции, где он устроился геологом, словно всё в эту зиму вымерло: остановился транспорт, мехцех стал похож на груду брошенного металла, не стучал по утрам кузнечный молот, не надрывалась пилорама, люди, спрятавшись в конторе, не работали, а высиживали за столами своё время. Нужны ли они кому, будут ли давать им зарплату — никто не знал. «Как жить-то будем?» — спрашивали они друг у друга, и если кто-то отвечал: «А как получится», или «Спроси что-нибудь полегче», это никого не удивляло. Все свыклись с безысходностью и тупым равнодушием ко всему, что происходит. В начале зимы ещё ругали правительство, а сейчас перестали и это делать. «Толку-то!» — думали все.
Когда пришла весна и река очистилась ото льда, Никита уговорил Зубаря сплавиться с ним по Индигирке до Оймякона. Ещё на практике в одном из её скалистых обрывов он обнаружил кварцевую жилу с богатым рудным золотом. «Проверю её, — думал он, — может, в ней промышленное содержание». «А что, давай!» — согласился с ним Зубарь, и они стали готовиться к сплаву. Привели в порядок резиновую лодку, насушили сухарей, запаслись патронами к ружьям и с наступлением солнечных дней вышли на сплав. Индигирка, всё ещё не освободившаяся от талых вод, гудела на перекатах, бросалась волной на плёсах, у прижимов крутила водовороты. Похоже, Зубарю всё это нравилось. «Где наша не пропадала!» — кричал он Никите и ловко правил лодкой.
На одном из прижимов они утонули. Их затянуло в грот, вымытый рекой в крутом обрыве.
На перевале
Много тысяч лет назад эти ущелья, распадки и гроты были скрыты многометровой толщей горного ледника. Вспахивая их днища и оставляя за собой груды песка, щебня и камня, он спускался вниз, в долину Анюя. На её поросших жалким кустарником просторах бродили стада диких оленей, рыскали голодные волки, вытаптывали лежбища мамонты и, наверное, уже курились дымки от кострищ, оставленных первобытными охотниками, а здесь, в этой громаде гор и льда, стояла мёртвая тишина, и только сорвавшийся из-под копыта горного барана камень да крик заблудившейся здесь птицы нарушали её. Сегодня здесь проходит перевал от Анюя на север до Чауна. Зимой, как и тысячи лет назад, здесь всё сковано льдом, стоит такая же мёртвая тишина, спрессованный морозом воздух свинцом давит голову, в полярные ночи, когда всё утопает в глубоких сумерках, охватывает щемящее сердце чувство одиночества, и уже кажется, что ни здесь, и нигде в другом месте нет никакой жизни, всюду холодный камень, лёд и непроглядная тьма.
Весной всё меняется. С восходом солнца оживают горы, незаснеженные их скальные вершины кажутся колоннадами, подпирающими небо, ниже: и снег, и обнажившийся под ним лёд в ярком, как само солнце, блеске вызывают чувство, какое испытывает человек в головокружительном спуске на лыжах. На самом перевале, в набухшем от воды снежном крошеве, уже тонут ноги, и слышно, как где-то рядом, пробиваясь к свету, монотонно журчат первые родники. А ещё ниже, в долине Анюя, разбросанный по снежному покрывалу лиственничный редкостой кажется похожим на причудливо сотканный ковёр. Там бродят стада домашних оленей, кружат над ними птицы, а к вечеру загораются костры, и отсюда, с перевала, они кажутся огнями, зажжёнными пришельцами из далёкого прошлого.
Лето на перевале — пора яркого разноцветья. В ясные дни вершины гор полыхают золотом оленьего ягеля, склоны их утопают в зелёном ковре кедрового стланика, в прогалинах с ярко-красной вороникой отцветает жимолость, пахнет настоем кедровой смолы, перекликаясь друг с другом, сбегают с гор ручьи. Ниже, на Анюе, всё утопает в зелени, а сам он на перекатах серебрится, как чешуя только что пойманной рыбы, на плёсах утопает в отражениях голубого неба.
Уже третий год отряд из экспедиции Соломатина ищет на этом перевале золото. Наверное, с другого уже давно бы спросили: где это золото, но с Соломатина спросить не каждому дано. Он известный человек в районе, состоит членом бюро райкома партии, является председателем какой-то важной комиссии в райисполкоме, да и вид у него такой, что не сразу подступишься. С широким, как у быка, лбом, маленькими и ничего не выражающими глазами, в обращении он неизменно холоден, и хотя редко повышает голос, всегда кажется, что чем-то недоволен. Даже и в том случае, когда собеседник толковый и убедителен в своих доводах, он, не глядя ему в глаза, говорит: «Ну, это мы ещё посмотрим».
Что заставляет Соломатина искать золото на перевале? Ведь и ему известно, что ледниковые отложения никогда богатыми золотом не бывают. Этот тяжёлый металл осаждается на плотике в промышленных концентрациях только после того, как речной поток, не раз перебуторив свои наносы, унесёт его на многие километры от коренного источника. Видимо, в геологии многое идёт не от ума и знаний, полученных геологом в учебных заведениях, а оттого, что ему дано природой. А это, как известно, идёт к нам не только от отца и матери, но и скрытыми от нас путями передаётся из поколения в поколение от того первобытного предка, которому мы обязаны своим происхождением. В этом отношении у геолога много общего с охотником. Охотника, ведущего свою первобытную родословную от мелкого птицелова, никаким калачом не заманишь вглубь тайги за крупным зверем, он и в подлеске настреляет себе куропаток сколько надо, другой ломит в тайгу, сидит ночами и днями в засадах и бьёт там лося или оленя, потому что его первобытный предок охотился и на них, и, наверное, на мамонтов. Соломатин, будь он охотником, ходил бы только на крупного зверя. Поэтому и в геологии, считал он, надо искать не там, где надёжно, но мелко, а там, где редко, но крупно. А здесь, на перевале, он искал коренной источник золота, рядом с которым, как он знал, не в каждом шурфу золото, но в каком оно есть — обязательно в крупный самородок. А искать мелкое золото внизу на Анюе, считал он, не его дело. Пусть этим занимаются серые геологи. И всё бы сошло Соломатину с рук, если бы в то время ещё многое не сохранилось от Дальстроя. Да, Дальстрой ликвидировали, застрелился его бывший начальник Павлов, вместо Дальстроя появился совнархоз, прииски и экспедиции обрели экономическую самостоятельность, но ничего ещё не изменилось в сознании людей. Руководитель, сняв с себя погоны, всё так же, по-армейски, требовал выполнения плана любой ценой, подчинённый, сбросивший с себя зэковский бушлат, в душе оставался невольником. Потребовали выполнения плана и с Соломатина. Сделал это секретарь райкома Рябов. У него было по-деревенски простое лицо, весёлые глаза, и когда он ездил по трудовым коллективам, его можно было бы принять за невзыскательного председателя колхоза, если бы всё ещё не носил он на широком, офицерского образца ремне наган в жёлтой кобуре. Однако в своём кабинете, когда прятал наган в сейф, он преображался и становился другим: лицо его вытягивалось в строгую маску, взгляд становился тяжёлым и неподвластным.