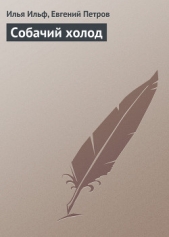Ладожский лед
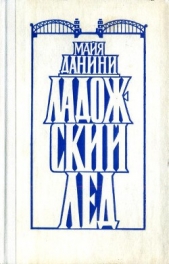
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какой непримиримой, жесткой становилась тетка Виктория, когда она вдруг встречала нас вместе, нас, отправляющихся на лодках куда-то на Лахту или просто по Невке, как она холодела и леденила нас своим холодом, она, добрейшее существо, любившая меня по-своему. (Сама она была замужем за своим двоюродным братом.) Когда мы вставали пред ее глазами рядом, то ее беззвучное: «Нет! Никогда!» — останавливало меня, отводило от моих братьев, и я покорялась ее немым крикам, да и они тоже. Наши прогулки оказывались испорченными, мы вдруг становились неестественными друг с другом, начинали смеяться так громко и вдруг теряли всякий интерес к тому, что задумали. Тетка уходила, но ее тень оставалась с нами и разводила нас.
Зато теперь мы захлебывались, глядя друг на друга, и что это было за ощущение! Все было нам интересно в другом: и одинаковость наших воспоминаний, разных и одних и тех же, и одинаковость наших лиц, и одна и та же гордость друг за друга. Ощущение: все-таки ты самый близкий, потому что я знаю всякую черту твоего лица, повторенную во мне, знаю всякое твое движение, которое сама могу сделать за тебя не потому, что я знаю, как ты всегда двигаешься, а потому, что привыкла с детства так делать. Я знаю, есть на свете лица красивее, чем твое, выразительнее, но ты — и не самый лучший и все-таки лучший, потому что ты — почти что я.
Это измученное слово влюбленность так мало выражает из того, что в самом деле ощущаешь, когда его произносишь, потому что оно подразумевает нечто плоско-определенное, а не то легкое состояние ясности всего существа, веселости и легкости, той силы восприятия и бесконечной детскости, которое я подразумеваю, когда говорю его по отношению к братьям. Нельзя же употребить еще более смешное выражение братская любовь, когда она вовсе не братская, потому что и теперь, когда мы встретились и глядели друг на друга, и теперь вспыхивало в голове: «А может быть, теперь?» — и сейчас же гасло, гасилось уже совсем не теткиными предостережениями, не ее трагическим: «Я все это пережила и знаю, не дай бог вам пережить — это во-первых, а во-вторых, для чего сокращать число семьи и рода, соединяя возможные варианты!»
Нет, не тетка вставала между нами, а мы сами, и я особенно, желавшая продлить свое детство, которое возникало при виде брата. Мы с ним никогда не перебирали в памяти все подробности нашего детства, тем более не произносили вслух знаменитого: «А помнишь?», но мы ощущали, как все всплывает само, мы ощущали приближение детства в присутствии друг друга.
Оба они что-то делали вдали от меня — один строил лодки, другой изучал клещей, — но оба они, помимо того что преподавали, ездили за границу, читали лекции, изобретали и строили, говорили веселые тосты, комплименты и остроты, — они еще были моими братьями, и я знала — делали примерно то, что и я, думали так, как я, и не потому, что мы одинаково воспитывались и были родными, а еще и потому, что мы, хоть и не звоня друг другу, ощущали, что происходит с каждым. Нам не было нужды звонить друг другу и видеться постоянно, мы и так слышали, что делает и думает другой.
Нас упрекали в том, что мы так мало видимся, но все эти упреки ничего не значили для нас, потому что мы могли видеться, могли и не видеться, и даже наоборот, если виделись, то часто оставались в раздражении, говорили друг другу детские колкости — привычные колкости, и не так легко, как на расстоянии, понимали друг друга, но, расставаясь, непременно все прощали и оставались в прежней связи.
О, я воображаю, как засмеются мои братья, прочтя эту главу:
— Ну, ну, ну, ну! Врешь, врешь, врешь, врешь. Ну, дружили, ну, играли, ну, еще туда-сюда, но любили, но любили — это просто ерунда! Что виделись очень редко — это да, это да, но что знали все подробно — это просто ерунда…
И все-таки я стану утверждать, что могу услышать звонок по телефону и без звонка, что могу понять, что происходит с людьми, даже если они и не звонят, как им там — хорошо или плохо, — могу почувствовать.
Эта связь, разумеется, не очень прочна, почти неуловима. Часто ошибаешься и после ошибки теряешь надежду снова понять что-то, но все-таки возвращаешься к этому своему состоянию и снова чувствуешь, что связь эта верна, если к ней привыкнуть.
Глава двадцать девятая
ЛЮДИ И ВЕЩИ
Сводить концы с концами так трудно! Хочется бросить все как есть, в той естественной хаотичности, как случилось написать. Думаешь: не так уж важно, в какой последовательности все изложено, как трансформировались в моем изложении события. Иной раз одно и то же рассказываешь по-разному, переставляешь факты (факты легко смещаются в голове!), да ведь они вещь не такая уж важная.
Все, что здесь написано, не воспоминания, а просто мое удовольствие вдруг видеть то, что помнится, с такой отчетливостью и восторгом, все заново и все гораздо лучше, чем, может быть, было в самом деле. Никакой грусти оттого, что все прошло, потому что теперь это куда значительнее и светлее. И вспоминаешь детство не для того, чтобы кому-то и что-то рассказать, а потому, что тебе хочется воскресить и полюбоваться тем, что было.
Странная вещь — было много тяжкого, но даже тяжкое становится славным, когда ты это только вспоминаешь, оно приобретает какую-то особенную прелесть — то ли потому, что имело свое благополучное разрешение, то ли потому, что ты улавливаешь в том, что было, свою логику.
Помню осень сорок первого года, все ее краски и оттенки, холодную змеиную жуть аэростатов, сверкающих в лунном свете, и дикую красную луну, которая ни с того ни с сего заливала город совсем не привычным беловатым блеском, а золотила предметы. Это уже была голодная луна, голодная красота, а потом настала смертная красота. Предсмертный стук метронома и великолепие умирающего города. Умирало все: камни подо льдом, решетки под тяжестью инея — никогда ни до, ни после не было такого инея, который делал всякий завиток моста и решетки тяжким, белым и живым, словно шевелящимся, разраставшимся с каждым днем и в то же время мертвым, леденящим. Никогда ни до, ни после Ленинград не знал таких жестоких зим. Почему именно эта зима была такой страшной — для того ли, чтобы Ленинград остался, каким был, или для того, чтобы умер прежний Ленинград и сделался другим? После такой зимы многие дома не выдержали и осыпались штукатуркой, трескались, отошли от соседних — не только из-за бомбежки, но и ото льда.
Тяжкая эта красота запомнилась мне так явно, так подробно, как может все запомниться только в му́ке.
…Так и домашние предметы были для меня всегда необыкновенно приятны и имели свой смысл и свою красоту, связанную с какими-то событиями и впечатлениями, имели иногда еще и скрытую от всех красоту, которую я одна знала и любила.
Была, например, у меня детская мягкая, искусанная ложечка младенческая, когда я, еще сидя на высоком стуле, училась есть, — это была любимая ложечка, легонькая, как бумажка, немножко резавшая меня своими краями. Она была без всяких украшений, но совершенно белая, с большим процентом серебра, бо́льшим, чем делали обычно, я могла с нею играть, кусать ее или ожидать, что дадут что-то очень вкусное, — она и связывалась у меня с первыми вкусовыми ощущениями детства, потому я так и любила ее, кормила кукол и вдруг однажды потеряла. Мне говорили всегда, что нельзя брать ложку для игры, а я брала со страхом, что потеряю, — и потеряла, как мне казалось, пока не прозвучало трагическое слово торгсин, которое сначала я не связала с ложечкой, и только много месяцев спустя поняла, что ее снесли в торгсин и обратили в какое-то лакомство для меня же, но мне было уже не до лакомства, потому что самое большое ожидание лакомства связано было у меня с этой ложечкой, которой теперь не стало. Она была для меня вещью одушевленной, насколько может быть одушевленным лакомство, она же была и игрой в сладкое, которая не получалась с другими ложками. Другие ложки стали мне неприятны, да и были всегда тяжелее этой, вероятно, мне было в самом малолетстве трудно с ними справляться — словом, первое эстетическое удовольствие я получила от той ложечки, хочется сказать — из той ложечки, а утратив ее, утратила первый предмет, красоту которого различала, и с тех пор — с момента утраты — держала ее в памяти, ее, отвлеченную от конкретного, красоту.