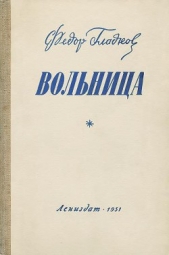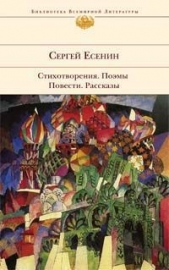Лихая година

Лихая година читать книгу онлайн
В романе "Лихая година", продолжая горьковские реалистические традиции, Фёдор Васильевич Гладков (1883 — 1958) описывает тяжелую жизнь крестьянства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так, когда я читал о ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, она до слёз смеялась и над тем и над другим.
— Вот дураки‑то! Как люди‑то от жиру бесятся!.. — От нечего делать!.. От скуки‑то можно ума лишиться до душегубства.
Особенно понравился ей «Мцыри». Она слушала, забывая обо всём, и шептала про себя отдельные звучные стихи. Я перечитывал ей эту поэму не один раз, но что‑то в ней было для неё тревожно–загадочным и угнетающим. Когда я заканчивал чтение певучих стихов, она долго молчал?, с лихорадочным блеском в глазах и со скорбной обидой в лице.
— Это чего он душу‑то свою сгубил? —упавшим голосом спросила она однажды. — Зачем он опять‑то назад, в темницу свою, воротился? Вырвался на волю и зверей не убоялся… И воля‑то перед ним раздольем открылась… И вот тебе — опять в келье… Знамо, лучше умереть, чем в неволе томиться.
Зная её и чувствуя её тоску, я понимал, что говорила она не о Мцыри, а о себе, о своей судьбе. Как и я сам, она эту поэму о Мцыри никогда не забывала и сжилась с ней на долгие годы. Я же, читая её многократно, выучил всю наизусть. Но стихи Некрасова она слушала тревожно. Как‑то она с грустной досадой сказала:
— Расстраиваюсь я, Федя, от этого чтения: горько да страдно, голодно да холодно… Аль мы это не знаем? Мы, бабы, лучше этого Некрасова умеем вопить да надрываться. А где отрада‑то? Вот Мцыри‑то хоть волю да силу свою почуял, сердце у него голубем забилось… И самой мне хотелось птицей улететь… А этот, Нехрасов-то, только ещё больше тоску наводит…
К рождеству она, хоть и с запинками, читала мои книжки, но быстро уставала. Мне ясно было, что она решила побороть эту трудность и добиться такой же бойкости и лёгкости в чтении, какой обладал я. Но я не мог понять, почему она артачилась и нервничала, когда я клал перед нею на столе свою школьную тетрадку и карандаш. В глазах её трепетал страх, она прятала руки и отодвигалась на край стола, словно видела в этой простой тетрадке и карандаше что‑то зловещее. Однажды я разозлился и закричал на неё. Она побледнела и застыла с мольбой в глазах. В эту минуту мне даже почудилось, что в чулане кто‑то со вздохом завозился, а по сумеречной комнате прозрачно проплыли тени. Я вспомнил, как бабушка Наталья разговаривала со своим домовым, и сам застыл от смутного ужаса. Но тогда я уже не верил ни в домовых, ни в чертей, ни в привидения — всё это первобытное и детское суеверие вытравили труженики ватаги, которые сами отвечали за себя и не боялись не только бога, но и нечистой силы кровососов–хозяев. Гриша, Харитон, Прасковья, Карп Ильич казались мне сильнее всяких чертей, а Иван Буяныч повелевал и морем. И мне уже смешно было представлять себе этих деревенских чертей с козлиными рогами и копытами, как бродячих голодных собак. Но мать невольно заразила меня странной тревогой и предчувствием какой‑то беды. Так мы, онемевшие, смотрели друг на друга и прислушивались неизвестно к чему. В её расширенных зрачках я уловил давно знакомую мне тьму, которую я уже привык не замечать. Эти волны душевных её переживаний были для меня непонятны, как тайна, и я чувствовал, что она в эти мгновения и видит и знает что‑то непостижимое, чего ни я и никто не увидит и не узнает.
Эта её нервная чуткость и постоянное душевное беспокойство выражались или трепетным предчувствием каких‑то событий в нашей жизни, или внезапной беспричинной задумчивостью, когда она вся уходила в себя и была похожа на «порченую», или ни с того ни с сего веселела, ликовала, разливалась своими песенками без слов, смеялась и суетилась по дому, как девчонка. Впрочем, пела она про себя и в часы угнетённой задумчивости, очень тихо, очень печально, и я не раз заставал её в слезах. В напевах её не было знакомых мне мелодий, словно в тех песнях, которые пелись всеми с давних пор, она не могла вылить свои чувства и думы, а создавала сама свои распевы, подбирала задушевные слова скорби и жалобы на свою несчастную судьбу, когда вопила и причитала вместе с бабушкой Анной. Должно быть, слова не нужны были ей для этих напевов: вероятно, они мешали ей выразить всю глубину её чувств, а мелодия свободно лилась из души и так же была трогательна и проста в своих переливах.
Но почему она боялась взять карандаш и выводить на тетради палочки и петельки, — я никак не мог постигнуть этого. Как‑то она сказала с судорожной улыбкой:
— Чай, я читаю‑то, Федя, в себя. Каждое словечко пью, как капельку. А писать‑то… Боюсь я, как бы себя не истратить: опустошишь душу, выложишь её на бумаге‑то — и будешь бессчастной, как дурочка. Ведь что утратишь — не воротишь.
Такой странной чепухи она никогда ещё не говорила. Я не мог удержаться от хохота: так могла болтать какая-нибудь суеверная баба, которая ничего не знала, кроме своего чулана и кур, которая верила и в нечистую силу, и в сны, и в разные приметы, но ведь мать видала свет и хороших, умных людей и ко всяким поверьям относилась, как к пустым побасёнкам. Я смотрел на неё и заливался хохотом.
Однажды ночью, когда я сидел за уроками, она с поющей протяжностью прочитала:
И вдруг уронила голову на руку, лежащую на книжке, и заплакала. Я бросился к ней.
— Ну, чего ты, мамка… ни с того ни с сего?..
Она подняла лицо, мокрое от слёз, и трепетно улыбнулась.
— Как хорошо‑то, Федя! Сердце у меня встрепенулось… Вся обневедалась: аль это я прочитала?..
Так проводили мы с нею длинные осенние и зимние вечера в своей старенькой избушке, как в скитской келье, одиноко приютившейся под крутой горой. Нам не было страшно ни в снежную бурю, которая выла и грохотала за окнами и потрясала стены, ни в безмолвные, глухие ночи, когда шорохи мышей чудились вознёй домового: мы оба были как ровесники и с одного взгляда понимали друг друга, а в молчании чувствовали один другого, как сами себя. Мы впервые в жизни переживали неиспытанное наслаждение в душевном своём успокоении и в радостном сознании своей свободы и независимости. И оба мы одинаково чувствовали, что эти годы не прошли для нас даром: мы стали умнее, богаче душой, узнали то, чего не знали наши мужики и бабы.
Мне было приятно, что учительница видела в матери не обычную деревенскую бабу, молодость которой сгорала в рабской неволе и тупой покорности, но женщину, которая знает иную жизнь, артельную, товарищескую, и которая мечтает об этой вольной жизни и хочет вырваться из тисков старозаветного, навозного житья. Она давно сбросила волосник, ходит в городском платье наперекор всяким пересудам и уж этой своей вольностью вызвала смуту среди девок и молодух, а потом и уважительную зависть к себе. В моленную она ни разу не ходила. Как‑то она сказала мне, когда я собирался в моленную послушать беседу и спор Якова с мужиками:
— Улиту‑то на ватаге помнишь, чай? А я ведь не Улита. Она у меня с тех пор душу перевернула. Такие, как Улита, без хомута не ходят, да и других в хомут тянут.
Но я был уверен, что, появись мать в моленной без волосника да в городском наряде, её с порога прогнали бы и богомольные старухи и старики и обесславили бы при всём народе.
После отъезда отца по праздникам начали похаживать к нам бабы — покалякать с матерью, поплакать, отвести с ней душу. Эти вечера похожи были на посиделки. Бабы часто являлись с рукоделием — с вязанием, с шитьём — и засиживались до позднего часа. Хотя они мешали мне готовить уроки, но я слушал с удовольствием их разговоры и тихие раздумчивые песни.
Разговаривали они о своих маленьких обидах, горестях и радостях, шёпотом сплетничали и посмеивались. Меня завораживала интимная праздничность этих вечеринок: каждая из подруг склонялась над своей работой, но работа как будто совсем не интересовала её, и пальцы шевелились сами собой, играя спицами и иголками. Обветренные лица, огрубевшие и постаревшие раньше времени, становились недомашними, далёкими от будничных забот.
Из семейных женщин приходили только две: покинутая жена Миколая Подгорнова — Ульяна — и Парушина невестка — Лёсынька. Остальные две–три молодухи были солдатки, которые ушли из мужниных семей обратно в свой девичий дом, пока мужья были в армии. Эти «соломенные вдовы», как кукушки, не имели своего гнезда: они вылетели из двора свёкра, но и ко двору родного отца не пристали. Обычно они считались «вольными» и располагали собою, как хотели, не признавая над собою власти ни той, ни другой семьи. Работали они и на барщине, и у мироедов. Семейные, мужние бабы осуждали их, считали «потерянными» и сочиняли про них всякую небыль. Солдатки держали себя независимо и бойко. Они смеялись и озорно отвечали: