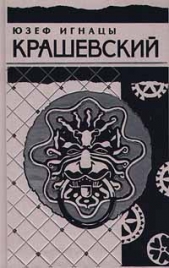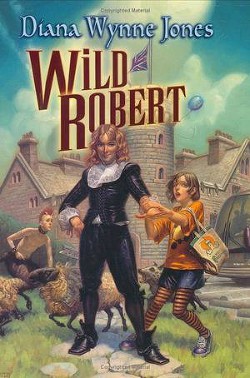Дикий селезень. Сиротская зима (повести)

Дикий селезень. Сиротская зима (повести) читать книгу онлайн
Владимир Вещунов родился в 1945 году. Окончил на Урале художественное училище и педагогический институт.
Работал маляром, художником-оформителем, учителем. Живет и трудится во Владивостоке. Печатается с 1980 года, произведения публиковались в литературно-художественных сборниках.
Кто не помнит, тот не живет — эта истина определяет содержание прозы Владимира Вещунова. Он достоверен в изображении сурового и вместе с тем доброго послевоенного детства, в раскрытии острых нравственных проблем семьи, сыновнего долга, ответственности человека перед будущим.
«Дикий селезень» — первая книга автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— До Морского, шеф, и, быть может, обратно, — подбежал он к ближней «Волге».
Таксист, не переставая молоть отвислой челюстью жвачку, оценивающим ленивым взглядом измерил заполошного помятого клиента и смачно выплюнул резинку:
— Два по пéтьдесят, — деньги на капот.
— Да, да, — Михаил, суетясь, полез во внутренний карман пиджака и достал четыре двадцатипятирублевки.
— Лады, — пробасил таксист и открыл дверцу машины.
Несмотря на то, что каждый месяц Михаил отправлял матери посылки и переводы, Ирине выслал на контейнер и на дорогу приличную сумму, деньжата у него были. Он и в добрые-то времена никогда ни с кем не торговался, а теперь, при таком напряжении, какой может быть разговор о деньгах. Два по пéтьдесят так два по пéтьдесят. Сказал бы два по сто, дал бы и две сотни. Лишь бы скорей, лишь бы скорей…
Михаил осел в кресле и закрыл глаза. Зашуршали шипы об асфальт, запотрескивало, точно каленный от фантастической скорости воздух игольчато крошился вокруг машины.
Обстучав соседей и убедившись, что Ирины нет, Михаил влетел в свою квартиру, заметался в поисках бумаги и на бланке путевого листа дергано стал писать: «Ирочка, я жду тебя в аэропорту. Ключи в школе у сторожихи. Как только приедешь, немедля позвони из школы в справочное аэровокзала и позови меня. Жду. Целую. Твой Михаил».
Он захлопнул дверь, всунул в ручку записку и стремглав помчался к школе.
Школа находилась рядом, но сторожиху, соседку по этажу, будить пришлось долго и еще дольше объяснять ей, заспанной, в чем дело.
Опустившись на мягкую, обтянутую черным дерматином скамейку напротив справочного бюро, Михаил ощутил страшную усталость и опустошенность. Ему показалось, что его беготня, гонка во времени ни к чему. Ему захотелось очутиться в своей квартире в Морском, провалиться в желанную постель и утонуть в бездонном слепом сне.
Он едва переборол себя, не повалился на скамейку, а задремал сидя, притулившись к холодной, выступающей в зал колонне, которая студила ему плечо и не давала уснуть. Время от времени Михаил вздрагивал от голоса дикторши, открывал глаза, вслушиваясь в гулкие, а потому невнятные слова.
Плечом и затылком Михаил прижал к колонне кипу газет, подергался: не соскользнет ли «теплоизоляция», лениво подумал, что, должно быть, выглядит нелепо на фоне газет и надо бы убрать их, но позу не сменил, лишь поуютнее сжался и в тишине, не оглашаемой объявлениями, заснул.
Сквозь толщу сна до него донесся гул, гудящее бубнение и женский крик: «Стойте, погодите, он сейчас!» Его кто-то сильно тряхнул за грудки. Противное шипение, с каким газеты скользнули вниз, вызвало в Михаиле нервную зубную боль. Он дернулся и, инстинктивно поняв, что шум и встряска взаимосвязаны и что ему надо бежать к телефону, рванулся со скамейки, едва не сбив с ног франтоватого москвича, который дергал его за лацканы пиджака.
Возле справочного окна, бережно, двумя руками, как ребенка, держала телефонную трубку телеграфистка.
— Наконец-то, это вас, — сказала она и передала трубку Михаилу.
— Алло, Ира, ты дома, в Морском? — закричал он.
— Мишенька, дорогой, извини, я поездом, — обычно жестковатый голос Ирины звучал чисто и нежно. — Когда будешь дома?
— Лечу! Через час! — Михаил положил трубку и, крикнув: «Спасибо всем!», поспешил к выходу.
Часть третья
Горький запах хвои
Покрытая погребальным покрывалом, мать лежала на столе на двух грубых широких плахах головой к окну.
Ослепительно белый Мурзик, украшенный редкими огненными пятнами, поводя красивой мордой, чуть раздувая ноздри, обошел вокруг стола, выискивая подходящее место, куда можно было бы запрыгнуть. Болонка Фимка понуро трусила за ним и, когда кот все-таки выбрал место и запрыгнул на край занозистой доски, завистливо тявкнула и запросилась к Нине на колени. Та, не отрывая от Мурзика глаз, взяла болонку на руки. Теперь уже все четверо, три человека и собака, смотрели, как кот поведет себя дальше.
Таськин муж, которого Анна Федоровна звала зятем Иваном, зажав коленями шишковатые, в мозольных наростах руки, не дорассказал свою очередную байку о покойниках и уставился на Мурзика.
Михаила бесило, что в одной комнате с мертвой матерью находятся холеный кот и бестолковая, с длинными лохмами болонка, которая дело без дела заливалась щенячьим лаем. Но запирать живность было бесполезно. Мурзик взаперти блажил утробным мартовским голосом, а Фимка выдавала такое пронзительное тявканье, что Михаил сам бежал выпускать негодную собачонку…
…Едва переступив порог теперь уже неродной квартиры, в которой умирала мать, он сразу же возненавидел и ухоженную болонку, трусливо наскакивающую на него, и лоснистого кота с маленькой головой, который с ленивым презрением взглянул на него своими точно подведенными глазами и, будто хозяин, повел за собой в комнату.
Михаилу хотелось распинать в разные стороны кота и собачонку, которые не давали матери спокойно умереть, но он подумал: «Ты не жил с матерью в последнее время, а они жили и, быть может, неплохо относились к ней».
Анна Федоровна лежала на своей кровати. Казалось, простынка облепила не живое человеческое тело, а сухонький угловатый скелет, который временами слегка подбрасывало, точно кто-то сидел под кроватью и подкачивал его. Это сильное материнское сердце никак не могло смириться с умиранием. Когда-то широкая рабочая рука сузилась, истончилась и слабой щепотью держала простынную складочку на впалой груди. Кисть руки казалась необыкновенно длинной, поскольку на тыльной стороне ладони, точно кости, ребристо белели жилы, обтянутые коричневато-серой блестящей кожей. На бугорке, откуда жилы начинались, темнела еще красная по краям коростка запекшейся крови.
«Опять мать падала с кровати, — вспомнил Михаил первую больницу, где лежала мать и где он познакомился с Ириной. — Все сама». Он уже несколько секунд смотрел на мать, но лица ее не видел: знал, какое оно, это лицо, и боялся взглянуть на него. Пока присаживался на подставленный стул, перевел взгляд с дрогнувшей руки матери на ее лицо и помертвел. Если бы в нем все враз не остыло, не окаменело, из него наверняка вырвался бы стон и плач. Михаил знал, что лицо матери обезображено болезнью и близкой мучительной смертью, но то лицо, маленькое, усохшее, с вытекшим глазом, которое он увидел, потрясло его.
— За что тебя так, мама? — прошептал Михаил и погладил ее руку.
Точно током ударило и подбросило костлявую, безжизненную почти руку. На какое-то мгновение она зависла в воздухе, и кисть ее замахала, точно неоперенное крыло птицы.
Михаил успел сунуться головой под руку, и мать, насколько хватило ее сил, прижала сыновью голову к себе и, словно своим нутром, своей душой, едва слышно прошептала:
— Ы-ша, ы-ок.
Так она держала его долго. Бухающие удары материнского сердца тяжело отдавались в его виске, но иногда биение сердца становилось мелким, частым. И тогда Михаилу казалось, что все ее существо, мучимое больным, чахлым огнем и ждущее нежизненной прохлады, начинало борьбу с ненавистным здоровым сердцем. В груди у матери хрипело, свистело, стреляло, будто кто-то рыком хотел напугать сердце, будто кто-то хлестал его плетьми, жег огнем, заливал водой. Казалось, маленькое, связанное, сердце едва вздрагивало, замирало, и, когда оно росло, трещали и лопались путы, и, освобожденное, оно радостно и бодро начинало биться.
Отупляющая, гнетущая тяжесть легла на душу Михаила и давила, давила, и это было невыносимо, мучительно, и он, высвобождая голову из-под тяжелой одеревенелой руки матери, прошептал про себя: «Я во всем виноват. Прости, мама».
Сгорбившись, он взял руку матери и, ощутив ладонью коросточку, представил мать, упавшую на пол. Лицо матери покраснело, на нем выступила испарина, и мать, подняв руку, как бы отрицательно затрясла ладонью: не плачь, дескать, сынок, не плачь.