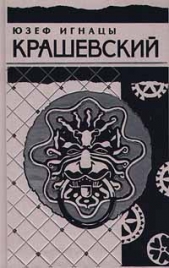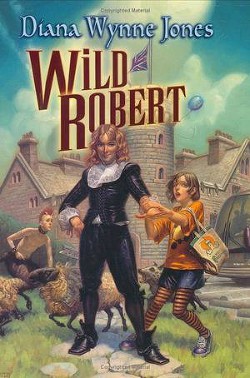Дикий селезень. Сиротская зима (повести)

Дикий селезень. Сиротская зима (повести) читать книгу онлайн
Владимир Вещунов родился в 1945 году. Окончил на Урале художественное училище и педагогический институт.
Работал маляром, художником-оформителем, учителем. Живет и трудится во Владивостоке. Печатается с 1980 года, произведения публиковались в литературно-художественных сборниках.
Кто не помнит, тот не живет — эта истина определяет содержание прозы Владимира Вещунова. Он достоверен в изображении сурового и вместе с тем доброго послевоенного детства, в раскрытии острых нравственных проблем семьи, сыновнего долга, ответственности человека перед будущим.
«Дикий селезень» — первая книга автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Владимир Николаевич Вещунов
Дикий селезень
Сиротская зима
Повести
Дикий селезень
Повесть в рассказах

Часть первая
Дом деда Финадея

Дом дедов жив и по сей день.
И всякий раз, встречаясь с ним, я сравниваю его с дедом Финадеем. Как будто вернулся Финадей в свое Селезнево да так и остался, припав широко к родимой земле.
Я помню себя с трех лет. Но рассказанное мне и случившееся со мной в детстве так тесно переплелось в моей памяти, что трудно бывает отделить одно от другого. Да я и не отделяю, как бы оставляя за собой право присутствовать всюду, куда время от времени заглядывает моя память.
А деда Финадея я помню так, словно видел и слышал его сам, а не по рассказам матери и селезневской родни.
Вот вижу деда в теперешнем моем возрасте, сорокалетним мужиком, бесшабашным и непутящим Финадейкой Портки Надень-ка.
Жара, а он в одутловатых стеганых штанах, таких тяжеленных, что веревка, поддерживающая их, вся в узлах, то и дело рвется.
На всех ярмарках Финадейка — посмешище. Вызовется на борьбу ли, на кулачки ли — все кривляется как шут гороховый. Двинут ему разок, а он катается: «Ох девоньки, примайте двойню, ох рожаю!»
Маленький, слушая историю про деда, я сердился поначалу на него. Как же это? Мой дедушка — и вроде как дурачок. Когда же история круто менялась, я торжествовал: дедушка специально придуривался, чтобы потом всех удивить.
И вот уже я на святках в Казанке.
Галдят мужики, гадают, отчего это Финадейки нет. Святки проходят — где же он? Куда запропастился, шут? Без него и зубоскальства нет, и праздник не праздник. Послали за ним Ганю Сторублевого, селезневского дурачка. Тот вернулся, глаза вытаращил, кряхтит и по кругу топчется, вроде как в обнимку с кем. Так от него ничего и не добились. Только знаю я, что изображал Ганя. Борьбу он показывал, как дедушка тренировался.
Масленица в Казанке. Вот появляется Финадейка. Жив курилка! Но смурной какой-то. Хотя нет. Раздевается на борьбу. Ну сейчас будет потеха. Встал ширококостный нараскоряку, руки ухватом и пошел на казанского десятипудового силача. Тот, бугай, осклабился — кто Финадейку не знает — и поджидает, подбочась. А Финадейка, не долго думая, коленку подставил, кулачком бугаю под лопатку — и тот грохнулся. Недовольны казанские: «Нахрапом несчитово — давай по новой!» — и снова борцов разводят по местам.
Не мытьем, так катаньем. То же самое и вышло. На этот раз никто и не уследил, как силач рухнул. Зачесались тут руки у многих: как так, чтобы Финадейка Портки Надень-ка — и поборол. Еще четверых уложил Финадей, нахлобучил малахай и пошел себе вразвалку…
И пример дедов, как он совладал с собой, перемог свою непуть и вытрудил свой дом, в памяти у меня всегда.
Когда за три года принесла ему Лампея двух девок, вспомнил Финадей, что Селезнев он, что дана ему жизнь не для того, чтобы расходовать ее попусту, а для дома, для семьи. Без дома девки одни плодятся. Будет дом — будет и парень.
Тяга выбиться из нужды, иметь крышу над головой сделала Финадея молчуном. Что называется, себе на уме.
С животным упорством, от зари до зари создавал Финадей свой дом. Где сам, надрывая пуп, где помочью, миром, однако к первому заморозку поставил крестовую избу — хранительницу селезневского рода.
Дом был готов. Слеги и «курицы» для водотечника лежали не на «самцах», а по-новому — на стропилах. Доски и «курицы» придавил не тяжелый охлупень с кулакастым коньком, а две непродороженные тесины под углом. Резные и узорчатые причелины и полотенца кружевами окаймляли окна.
Дом оказался с характером.
Срубил Финадей крыльцо, всадил в него топор и затянул после трудов праведных самосад, искоса любуясь на свое творение. Собрал бересты, щепу и печь попробовал. Постелил соломки и в первый сон в новом доме ударился. Сладок был первый сон, страшен второй. Скрипел половицами смутный белый человек, переставлял лавку с места на место. Окаменел Финадей в углу. Построил дом, а тут на тебе: привидение в собственном доме бездельничает, раскидывает солому по горнице.
Очухался Финадей с рассветом, сам не свой. Скамейка опрокинута, задергушки на печке и на полатях скомканы, на окнах завязаны узлами, и солома растаскана по полу.
Прежде Финадей ни в бога, ни в черта не верил, а тут…
Лампея рассудила по-своему. Не на том месте, видать, избу поставили. Не опрыскали угор святой водицей, не хаживали с богородицей через пороги — вот и беда… Или дедушке домовому не угодили. Хоть и на людях вроде, у большака, однако внизу Елабуга свои тайны в омутных воронках крутит.
Кто его знает, что на самом деле привиделось Финадею, но сам он объяснял, что всякие чудеса — есть испытание человеку. Не хотел, видать, дом признавать Финадея хозяином, на испуг хотел его взять, авось отступится мужик. Ведь вон какой шалопутный был мужичонка. Стоит ли доверять такому?
У меня, когда я слушал историю про привидение, сладко замирало сердце от страха. И со щемящим ужасом я представлял себя на месте деда. Конечно, привидение было настоящим, конечно, все в избе после него было взбуровлено. Как много загадочного на свете — аж дух захватывает!
Какая русская деревня жила в ту керосиновую пору без домовых, привидений, оборотней, без своих доморощенных чудес, дурачков, занятных и жутких историй!
Такое иногда пригрезится — уму непостижимо: не поймешь, где явь, где сон и бред. Будто физически ощущаешь соприкосновение с потусторонним, запредельным. И кажется тогда, что все было на самом деле. Расскажешь причудившееся, слукавишь самую малость, и уже сам веришь в придумку. И ходит придумка твоя по белу свету, и всяк норовит ее, точно одежку, примерить на себя. Мол, как я в ней? Истинно, проверка человеку. Не в деле пока, в воображении. Но все-таки…
Прав дед Финадей, прав. Для обретения истины сей и слукавил поди? А может, еще для чего?..
Ну а дети малые без всякого лукавства верят в то, что налукавили взрослые. Было, не было ли — все равно было.
И я там был, жадно медок пил…
Обжили Селезневы дом. Забелела труба и над баней у Елабуги. Не по-черному. Как в Казанке. Поехал Финадей в Ишим и привез мануфактуры, лампового стекла, леденцов и две занятные картинки: шута Балакирева и Пата с Паташонком.
Для прочности не хватало наследника: девки — Полька и Лизка, рано-поздно уйдут к мужьям. Кто продлит Финадеев род? Лампея, добрая хозяюшка, выполнила свой долг и родила Гриню.
Бабушка Лампея была хозяйка справная, но из травновских двоедан. Как истая староверка, она крестилась двуперстием, ела из отдельной посуды за печкой, низко склонившись и прикрываясь руками: не дай бог, увидит кто.
На Лампеин изъян Финадей не обращал внимания, лишь бы детей своей верой не портила.
После последней помочи пристал к Финадееву дому Ганя Сторублевый, который был у Финадея на подхвате, столовался и жил у него.
Верившая во всякие приметы, бабка Лампея сказывала, что еще за год до войны с германцем, как только на Елабуге окреп лед и по ней потянулись обозы, Ганя, босой, в драной рубахе и портках, поковылял на ярмарку в Казанку. Там он выклянчил у цыган дырявые монеты, понацеплял их на себя с жестянками-побрякушками и кавалером всех орденов заявился обратно. А через год заголосили бабы по ушедшим на фронт. Селезневский староста пожалел Финадеевых детушек и за телушку оставил Финадея в покое.
Мать моя, Полина Финадеевна, о себе, какой она была в ту пору, почти ничего не рассказывала. И только тетя Лиза поведала мне в последнее мое гостевание в Селезневе о «няньке» — так звала она старшую сестру свою. «Жизнь прожить — не поле перейти», — то и дело приговаривала тетя Лиза, словно оправдывала все, что свершилось с матерью и моим дедом в те горячие времена.