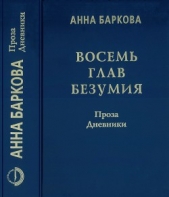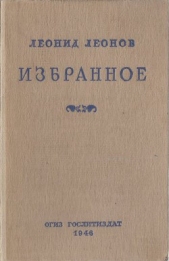Избранное. Из гулаговского архива

Избранное. Из гулаговского архива читать книгу онлайн
Жизнь и творчество А. А. Барковой (1901–1976) — одна из самых трагических страниц русской литературы XX века. Более двадцати лет писательница провела в советских концлагерях. Но именно там были созданы ее лучшие произведения. В книге публикуется значительная часть, литературного наследия Барковой, недавно обнаруженного в гулаговском архиве. В нее вошли помимо стихотворений неизвестные повести, рассказ, дневниковая проза. Это первое научное издание произведений писательницы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Совокупился бы Вертер с Шарлоттой, создал бы с ней добропорядочную в немецком духе, буржуазно-мещанскую семейную жизнь — не покончил бы с собой.
У человека всю эту мерзость скрашивает жажда обладания духовного, инстинкт к пересозданию, к улучшению человека, т. е. инстинкт власти и инстинкт творческий. Только эти инстинкты — нечто отделяющее нас от четвероногих братьев и… может быть, оба эти инстинкта лишь производное от сексуального инстинкта (догадка моего пятнадцатилетнего возраста).
Неандерталец, а раньше питекантроп и синантроп блуждали по каким-то участкам мира, вступали в единоборство со зверями, питались и совокуплялись… Инстинкт господства и созидания появился позднее; конечно, из какой-то нужды появился.
Экономическая база… Давняя, биологическая до сих пор довлеет над человеческим обществом.
Убеждения. Ненависть к какому-то социальному и полит<ическому> строю. Беспокоит ли меня так уж сильно несвобода личности вообще? Честно говоря — нет! Очень малое число людей достойно этой свободы. Большинство великолепно чувствует себя в рабстве. «Дай работнику небольшую собственность, — говорит Герцен („С того берега“), — и он станет мещанином, мелким рантье», и соц. революция превратится в вещь очень проблематичную.
Дай существ<енную> власть даже пострадавшим друзьям (В. М. и другим), удовлетворительный жизненный минимум (квартиру, более или менее обеспечивающую и не очень выматывающую работу, свободное время, некоторую сумму развлечений и удовольствий), и ничего больше они не потребуют и почувствуют предел возможного счастья.
Таким, как я, этого мало. Безумная жажда самоутверждения, творчества, власти над человеческой душой, жажда изменения мира — свойства печальные, асоциальные, преступные.
Но при чем тут убеждения? Разве я заинтересована в благе для всего мира? В самоутверждении? В бессмертии?
Люди попали не под колесницу Джагернадта, а под ассенизационный обоз.
Меня нет в списках живых и мертвых. Есть где-то мое «дело». Существование фантастическое. Мой призрак бродит по Москве. Знакомые опрашивают: — Ну, как? Что-нибудь новое есть? Я терпеливо отвечаю: — Ничего нового. А они удивляются. И — естественно — подозревают меня в нежелании добиваться этого «нового». Жаль, что не все «наши люди» пережили арест, дальнее плавание и все проистекающие последствия.
…Семьдесят наших судей освобождены. Можно продолжать сносить удары зубодробительные и удары-скуловороты, крушить челюсти и ломать ребра.
Флобер. Письма очень интересные, бесконечно можно перечитывать, но какой это претенциозный навязчивый «объективизм» (об искусстве), какая крикливость, какой шум. А восточную экзотику (кроме картин Гогена, в к<отор>ых главное отнюдь не экзотика) просто не переношу.
Искусство. Красота Бовари хороша, а все-таки любая вещь одного из «субъективнейших» художников — Достоевского на десять голов выше Бовари. Даже и в области Красоты, с большой буквы Достоевский, «монархист», «моралист» (всесмертные грехи), оставляет Флобера за флагом.
Отсутствие вкуса и такта свойственно настоящему гению.
Умственная и всяческая неуклюжесть.
М<ожет> б<ыть>, стиль.
А все-таки читать Фл<обера> — кроме писем — сейчас невозможно. Бальзак очень читается, Стендаль, даже Мериме. Флобера не могу читать. Что-то неизъяснимое отталкивает. Объективизм, шумливость, даже его оттачивание фразы раздражает меня до остервенения.
Обретаемое время
У французского писателя Марселя Пруста есть роман «В поисках утраченного времени». Последнюю часть его, «Обретенное время», я не читала. Но можно представить себе, о чем он говорит в последней части многотомного произведения. Я думаю, что «обретенного времени» нет. Есть постоянно обретаемое время, которое мы постоянно теряем и снова обретаем, и так длится в продолжение всей нашей жалкой жизни.
И обретаем мы далеко не все утраченное время, а какие-то отдельные мгновения его, притом, на первый взгляд, не самые существенные, не самые значительные, даже не самые трагические и не самые счастливые.
Почему сегодня после очень неприятной бессонной горькой ночи я, сидя за чаем, задумалась, закрыла глаза и вдруг передо мной — не возникло, нет! — это слишком слабое выражение, — а необычайно ярко почувствовалось зрением, обонянием, слухом, всеми нашими очень ограниченными пятью чувствами давнее прошлое.
Зимний морозный вечер в своем родном — рабочем, и скучном, и своеобразном — текстильном городе. Зимний вечер с ярко-синими твердыми, как будто литыми, сугробами снега, красновато-желтый закат и на фоне заката одинокая острая, тонкая колокольня. И в ту же минуту сладостно заныло сердце и давняя странная мечта — ощущение средневекового Нюренберга — захватила душу. Почему? Я не знаю. Но когда я очнулась после краткого мгновения, мне казалось, что я вернулась из прошлого, что я долго пропутешествовала там.
Болезненно ударила по нервам, как нечто грубое, незнакомое, глубоко чуждое, вся окружающая обстановка: барак, нары, какие-то люди <нрзб.>. Это мои товарищи. В обычное время я испытываю к ним большую жалость и большое презрение, как к себе самой. Но сейчас я вернулась из осязательного живого существующего прошлого, и я осматриваюсь кругом с отвращением, недоумением и ужасом…
Нет! Лучше снова уйти в обретенное время, и я закрываю глаза и закрываю лицо руками.
Тот же город. Но теперь это жаркий майский день. Я стою у двери почти новой, тяжелой, щеголеватой, отделанной под дуб, а может быть, и дубовой. Кнопка звонка. Я с замиранием сердца протягиваю руку к этой кнопке. Тонкий звук где-то в глубине здания. Звук, похожий на колебание серебряной струны. Я не только слухом воспринимаю его, я осязаю его всем телом, осязаю сердцем, болезненно и необычайно радостно сжавшимся в напряженный комок. Я знаю, что любовь безнадежна, — смешно ожидать чего-то: ничего не случится. Я даже не могу, не смею и не имею права сказать об этой любви. Мне всего 13 лет. Я — гимназистка. И я люблю женщину. Она, разумеется, гораздо старше меня. Она моя учительница и немка. Я — русская. А уже около года продолжается так называемая «первая мировая война». Тогда она, конечно, была не первой, а просто мировой войной. Все это чудовищно. Но все-таки сердце щемит не от чудовищности моей любви, а от ее полнейшей безнадежности, обреченности. И в это же время непобедимая, весенняя, мучительная, зовущая куда-то радость в сердце. Тепло-тепло, солнечно-солнечно. Дверь открывается. Запах дома, где живут люди изящные, красивые, которые носят красивые одежды и не дрожат над каждым грошом, обволакивает меня. И — конец. Опять я в казенном арестантском жилье, провонявшем шлаком и портянками.
Обретенное мгновение снова утеряно. Это не воспоминание того, что произошло со мной в эти краткие, но необычно насыщенные секунды. Воспоминание — простите за страшное сравнение — нечто статистическое, оно просто констатирует: тогда-то было то-то и то-то. Воспоминание похоже на бескрасочную фотографию, а вернее, на какой-то чертеж прошлого.
Со мной произошло обретение времени, каких-то отрезков его, повторяю, не капитальных, не определяющих, но зато чрезмерно насыщенных силой ощущения, ставших видимыми, конкретными, живыми.
Как знать, может быть, эти мгновения обретения прошлого в какой-то степени были и определяющими. Не в них ли заключалось знаменательное «чуть-чуть», которое делает картину живой и создает человеку характер?
…А вот и третий отрывок, третье обретенное мгновение. И я обретаю его очень часто, могу обрести в любое время. Я в свои 53 года молниеносно переселяюсь в образ шестнадцати-семнадцатилетнего подростка, сидящего за узеньким деревянным грубым столом, покрытым чистой газетой. Летний день, в маленькие окна бьет солнце. Я смотрю на книги и рукописи, сложенные на столе в педантичном порядке, невероятно симметрично. Малейший косой уголок бумажки, выглядывающий откуда-нибудь, раздражает меня до того, что я ничего не могу делать. Итак, летний яркий свет. В нем всегда есть что-то скучное, слишком законченное, ничего не обещающее. Это не то что весна, которая терзает нас и вечно зовет к неизведанному счастью, заранее омраченному крушениями, которые такие люди, как я, предчувствуют и предощущают даже в лучшие минуты жизни. Это не то, что осень, порождающая страсть, особенно томительную и непреоборимую, потому что она последняя, потому что она на золотой грани, разделяющей рост, возрождение и гибель, умирание.