Мы вышли рано, до зари

Мы вышли рано, до зари читать книгу онлайн
Повесть о событиях, последовавших за XX съездом партии, и хронику, посвященную жизни большого сельского района Ставрополья, объединяет одно — перестройка, ставшая на современном этапе реальностью, а в 50-е годы проводимая с трудом в мучительно лучшими представителями народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Примерно в тот самый час, когда Иннокентий Семенович, выслушав Симу, сказал: «Не везет же старику!» — в другом месте, в маленькой аудитории, Виль Гвоздев излагал своим товарищам по комсомольскому бюро выношенную им после съезда партии идею. Осуществление ее, по мнению Виля, должно было всколыхнуть жизнь факультета.
Виль Гвоздев и его товарищи решили подготовить комсомольское собрание. Обозначилась и тема: «Место журналиста в общественной жизни».
— Я уже начал готовить доклад, — сказал Виль. — Я даже нашел эпиграф к докладу. — И Виль невыразительно прочитал на память эпиграф: «Великие мира кажутся нам великими только потому, что мы сами стоим на коленях. Подымемся!» (газета Лустало времен Великой французской революции 1789 г.).
Тамара Голубкова с обожанием смотрела на Виля. Она ничего не знала ни о газете Лустало, ни о тех словах из этой газеты, которые знал на память Виль Гвоздев. Она ничего этого не знала и с тем большим обожанием смотрела на своего Виля.
Деревенский очкарик Саватеев говорит тягуче, медленно, как бы вразвалку, а голос его всегда дрожит от волнения.
Володя написал правду о деревенской жизни, о судьбе одной семьи. Ничего в этой трудной судьбе не смазал, ничего не обошел. Раньше, при Сталине, не всегда можно было говорить всю правду. Володя написал теперь все, что видел, все, о чем думал. Он еще молод, очень молод, деревенский очкарик Володя Саватеев, а говорит, как взрослый, и большая жизнь его занимает, как взрослого. От этого счастья у него перебои в дыхании, когда он читал свой очерк, написанную им правду. Он читал этот первый свой очерк на занятии у Лобачева. Когда прозвенел звонок, к Володе подошел Гвоздев и молча пожал ему руку. Они стали друзьями.
Он тоже знал, что была такая газета — «Парижские революции», редактировал которую некий Лустало, помнил, хотя и не дословно, эпиграф из этой газеты, и оттого, что все это знал его друг Виль, ему было и радостно и немножко грустно. Он не совсем еще разобрался, то ли ему грустно было из-за ревности к эрудиции друга, то ли из-за того, что Тамара все время смотрела на Виля. Чтобы подавить в себе эту непонятную ревность, он спокойно сказал:
— Правильно, Виль. Эпиграф подходящий.
— Правильно! — повторили вслед за ним остальные члены бюро.
А через несколько дней состоялось задуманное Вилем комсомольское собрание на четвертом, предвыпускном курсе.
В тот вечер все партийное руководство и многие члены партии находились в актовом зале университета, где проходил партактив.
На комсомольском собрании присутствовал только секретарь факультетского бюро комсомола Григорий Нашев. Он сидел в президиуме и улыбался. Он улыбался потому, что перед ним была сотня хороших ребят и девчонок с комсомольскими билетами, со значками на платьицах, кофточках, на отворотах пиджаков и курток. Он был их руководителем, и ему хотелось, чтобы они видели его улыбку, видели, что ему приятно быть с ними. У него было хорошее настроение.
У Виля Гвоздева, когда он вышел на трибуну, лицо было бледное. Он положил перед собой стопку исписанной бумаги, выждал, пока улеглись разговорчики, и прочитал эпиграф из газеты Лустало. Стало тише, и Виль начал доклад.
— С тех пор как смерть Сталина положила начало критике… — начал Виль тихим голосом.
— Громче! — выкрикнул кто-то из зала.
Виль взглянул в этот зал неопределенным взглядом и прочитал снова и еще тише.
— С тех пор как смерть Сталина положила начало критике, жизнь все с большей настойчивостью требует объяснений. — В зале последние шорохи словно опустились в воду, в самую глубину, а Виль немного прибавил голосу. — Как это ни странно, — продолжал Виль, — как это ни противоречит нашим теориям, с судьбой одного человека связываются коренные изменения не только в истории страны, но и в жизни, в сознании массы людей. — Нашев перестал улыбаться и внимательно прислушался к докладчику. — Кончилось время непогрешимости авторитетов, время слепой веры вообще.
Нашеву только что казалось, что тише уже не может быть, но стало еще тише. А голос Виля уже звенел. Виль был еще бледен, но нервная напряженность сошла с его лица.
— Эта вера, доведенная к пятидесятым годам до крайности, в короткое время сменилась противоположной тенденцией. Орудие критики, — быстро читал Гвоздев, — которое взял на вооружение Президиум ЦК, оказалось и на вооружении массы…
Сославшись на высказывание Герцена: «Мы пережевываем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, — ищем оправданий, объяснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось испытующему взгляду критики», — сославшись на это высказывание Герцена, Виль Гвоздев патетически закончил взводную часть своего доклада:
— Какая высокая честь жить в такую эпоху, в такое время, когда критическим огнем пылает человеческий разум!
Мирабо! Дантон! Друг народа Жан Поль Марат! Кто-то резко ударил ладонью в ладонь, и зал захлебнулся в аплодисментах.
Нашев, у которого лицо было теперь растерянным и беспомощным, не то аплодировал вместе со всеми, не то просто так, не отдавая себе отчета, сводил и отводил пальцы лежавших на столе рук. Одно только можно было прочесть у него на лице: Григорий Нашев срочно хотел что-то решить для себя, а решить не мог. Ему мешала и быстрая речь Гвоздева, речь, сразу видно, крамольная, и реакция комсомольцев на эту крамольную речь.
Виль говорил не совсем на тему. О месте журналиста в общественной жизни он сказал всего лишь несколько слов. Зато поднимал, ставил одну за другой такие проблемы, как личность и государство, народ и партия, свобода и необходимость и так далее. Он ставил эти проблемы и тут же, не сходя с места, решал их с удивительной смелостью. Никто не замечал отступления от темы, потому что сегодня любая тема сводилась к тому, о чем говорил Гвоздев.
— Из уст в уста, — продолжал Виль, — передается по секрету и выдается за единственную правду и то, что было, и то, чего не было. Маленькие людишки плюют на память того, кому еще вчера поклонялись, пели хвалу и кричали «ура». Пусть так. Не это должно интересовать нас. Честные, думающие люди — а мы должны быть именно такими людьми — по-иному воспринимают события этих дней. Не великие разоблачения их интересуют прежде всего. Их волнует судьба народа, судьба отдельного человека и его место в нашей жизни…
Теперь уже Вилю Гвоздеву аплодировали чуть ли не после каждой фразы. Страсти накалялись, и каждый, даже самый скромный мальчик или девочка, в эти минуты чувствовал себя революционером, наследником Маркса и Ленина.
— «Закон, карающий за образ мыслей, не есть закон, изданный государством для его граждан, это закон одной партии против другой. Преследующий за тенденцию закон уничтожает равенство граждан перед законом. Это закон не единения, а разъединения, а все законы разъединения реакционны». Так писал молодой Маркс — И это особенно подчеркнул Виль Гвоздев: мы — молодые, и с нами молодой Маркс.
Зал бурно отозвался на эту солидарность молодости…
— В социалистическом государстве, — говорил Гвоздев, а в это время партийное руководство факультета заседало на активе, в актовом зале университета, а Федор Иванович Пирогов лежал под ножом хирурга, — большинство народа прониклось социалистическими идеями, мы не знаем иных идеалов, кроме коммунизма, — кто же посмеет выступить против большинства! Врагу говорить не дадут. Народ — лучший цензор речей и дел. Так будем верить в благонамеренность соотечественников и единомышленников!
Виль зашел в такие философские дебри, что нельзя было проследить за мыслью, да и сама мысль пропадала в этих дебрях. Но собрание слушало тем не менее, а в тех местах, где что-то было понятно, принималось еще и еще раз аплодировать.
Нашев, измучившись нерешительностью, терзаниями совести, не зная в точности, как же ему ко всему этому отнестись, наконец сделал выбор. Человек еще молодой, вчерашний студент, к тому же вплоть до аспирантуры писавший стихи, Нашев сначала робко, а потом все уверенней стал утверждаться в мысли: да, наступает новое время. И ничего ужасного в том, что говорит Виль Гвоздев, решительно нет. Ужасно с точки зрения вчерашнего дня. А ведь после вчерашнего дня уже был сентябрьский Пленум ЦК с его беспощадной правдой и критикой, прошел очистительный шум вокруг очерков Овечкина, и, наконец, на съезде высказана тяжкая правда о Сталине, о трагических последствиях культа личности. Конечно, наступает новое время. Это даже хорошо, что так выступает Виль Гвоздев. Повеяло свежим ветром! И Нашев, не очень вслушиваясь в доклад, вернее, не улавливая смысла философских рассуждений докладчика, снова улыбнулся аудитории, горевшей многими десятками молодых глаз. Но улыбнулся он и окончательно определил свое отношение, когда Виль Гвоздев заканчивал свой доклад. Он заканчивал его монологом, обращенным к благополучному обывателю:



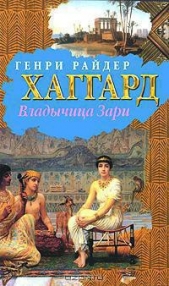
![Роботы зари [Роботы утренней зари]](/uploads/posts/books/10880/10880.jpg)




















