Мы вышли рано, до зари

Мы вышли рано, до зари читать книгу онлайн
Повесть о событиях, последовавших за XX съездом партии, и хронику, посвященную жизни большого сельского района Ставрополья, объединяет одно — перестройка, ставшая на современном этапе реальностью, а в 50-е годы проводимая с трудом в мучительно лучшими представителями народа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он любит четверг — день ректора, любит сидеть в президиуме, любит, когда вызывают в ЦК и на заседания редколлегий, он любит и вас, если вы, конечно, хороший человек и не собираетесь подсиживать декана и тем более поднимать скандал по любому поводу.
Федор Иванович любит, чтобы все было тихо и по-деловому.
Пока так оно и было. Тихо. Идут занятия. Потом отдребезжит последний звонок, коридоры, набитые гулом студенческих голосов и топотом студенческих ног, оглохнут и опустеют.
В запасном зальчике факультетской читальни начнет недружно собираться кафедра.
У окна, за председательским столиком, сидит Иннокентий Семенович Кологрив. За его спиной, в университетском дворе, вьюжит февральская вьюга. Иннокентий Семенович нетерпеливо перебирает деловые бумажки, близоруко обнюхивает их, ставит, где это необходимо, галочки, знаки вопроса и еще какие-то знаки. Потом вскидывает седые кустистые брови, оглядывает полупустой зальчик, ждет кворума. А кворум, как всегда, собирается медленно, вразвалку. Это раздражает.
Иннокентий Семенович, недавно уволенный в запас, еще носит форму морского офицера, еще полностью сохраняет деловитость и собранность военного политработника, и поэтому всякая «развалка» его раздражает. Вот он опять вскинул белые кустистые брови, распрямил тяжелый, но подвижный свой корпус и сказал энергично:
— Борис Яковлевич!
Борис Яковлевич пожимает плечами и идет обеспечивать кворум.
Белая голова Кологрива браво держится над полковничьими погонами. И вообще Иннокентий Семенович выглядит орлом — сильно огрузневшим, но все же орлом.
Вряд ли кто другой на его месте смог бы так быстро войти в свою не совсем естественную роль. Дело в том, что юридически кафедрой заведовал декан Федор Иванович Пирогов. Но, как уже известно, охватить все и поспеть всюду Федор Иванович не мог. И сегодня, в этот самый час, когда надо вести заседание, Федор Иванович находился где-то в другом, более важном месте.
На первых порах Иннокентий Семенович перезванивался с Федором Ивановичем перед кафедрой, согласовывал повестку, а заседания открывал с оговорками: «Федор Иванович просил… Федор Иванович поручил… Федор Иванович…» — и так далее. Позже во всем этом необходимость отпала сама собой, и все постепенно привыкли считать Иннокентия Семеновича хозяином на кафедре. Это двусмысленное положение смущало его недолго. Благодаря своей собранности и исполнительности Иннокентий Семенович быстро вошел в эту новую для него роль.
— На флоте, — сказал он бойко, — есть такой термин — скатить, пропесочить!.. Мне что, больше всех надо?! Я возмущен поведением отдельных членов кафедры. Придется кое-кого пропесочить.
— Правильно, — отозвался Иван Иванович Таковой, тоже полковник и тоже ходивший в офицерской форме с погонами.
Сегодня кафедра должна обсуждать его докторскую диссертацию, и в том, что заседание начиналось так вяло и недружно, Таковой усматривал неуважение к своей многолетней работе, а может быть, и к самому себе.
— На сходку собираются, что ли? — протянул он и розовым полнощеким лицом обиженно отвернулся к окну, за которым бушевала февральская вьюга.
— Да бросьте вы эту канитель, полковники! — взмолился доцент Шулецкий. Он был со всеми на «ты», со всеми на дружеской ноге и не понимал споров попусту.
— Хорошенькое дело — канитель! — уже добродушно отозвался Иннокентий Семенович.
— Ну объяви мне выговор, и дело с концом. И открывай заседание, — сказал Шулецкий.
Иннокентий Семенович хохотнул, засмеялся, потому что по природе своей был тоже не злым, а веселым человеком. Засмеялся, повертел головой и открыл заседание кафедры.
Первым стоял вопрос о производственной практике студентов. Иннокентий Семенович предоставил слово Шулецкому Сергею Васильевичу.
— Ну что ж, — миролюбиво сказал Сергей Васильевич: можно, мол, и с меня начать. — В моих группах обсуждение практики прошло нормально. Есть, конечно, и хорошие ребята, толковые, есть и так себе, ни то ни се. — Улыбка, не сходившая с лица Шулецкого, как бы свидетельствовала об устойчивом благоденствии на кафедре. — В этом году, — продолжал Сергей Васильевич, — я отказался обсуждать работу каждого студента. Почему? Подумайте сами: первый, второй, третий, ну четвертый — все идет хорошо. А что дальше? Дальше начинаются повторения, одни и те же достоинства, одни и те же недостатки. Начинается скука. Об остальных я решил говорить обобщенно, в целом. Право же, перед нами не журналисты, перед нами еще мальчики и девочки. Никакой индивидуальности… — Шулецкий развел руками, словно говоря: не я же виноват в этом. Но, окинув членов кафедры своим веселым взглядом, Сергей Васильевич как бы споткнулся на рыжих глазах Лобачева. И хотя Лобачев ничего еще не успел сказать, Шулецкий зачем-то стал оправдываться. — Разумеется, Алексей Петрович, — заспешил Шулецкий, — разумеется, мне можно возразить, но вы поймите…
— Может, в нем Лев Толстой сидит, а мы о нем «в целом», — сказал Лобачев.
Шулецкий растерянно пожал плечами и сел: как хотите, я свое сказал.
Иван Иванович Таковой, говоривший сидя, не поднимаясь со стула, пожурил Лобачева.
— Они у нас, — сказал Иван Иванович, — и так мнят о себе черт знает что. Сколько гениев развелось! А мы давайте масла подливать в огонь — в тебе, дескать, Толстой сидит. Да от этих Толстых, товарищи, деться будет некуда. Зазнаек воспитываем, Толстых? Или работников партийно-советской печати? — Таковой, с усилием повернув голову так, что краской налилась его крупная шея, укоризненно посмотрел на Лобачева, как бы предоставляя ему право ответить самому: кого мы должны воспитывать — зазнаек или работников печати.
Лобачев притушил глаза, опустил голову, и восточное лицо его снова сделалось вялым и безучастным.
А кафедра уже разбилась на два лагеря, мнения разошлись, и разгорелся крупный спор. Были минуты, когда спор достигал такой точки, что требовалось вмешательство Иннокентия Семеновича. С помощью морской терминологии ему удавалось на какое-то время сбить накал, но через минуту научные страсти снова достигали верхней отметки.
В конце концов все поняли, что вопрос этот теоретически разрешить невозможно, и было решено оставить все как есть и предложить разобраться во всем этом методической комиссии.
Второй вопрос — обсуждение докторской диссертации Такового — проходил уже спокойно, даже несколько вяло. Люди все же устали.
Диссертацию одобрили, замечания касались частностей и никак не снижали научной ценности работы в целом.
Иннокентий Семенович Кологрив недолюбливал Такового за его удачливость. Иван Иванович много печатался в сборниках, выпускал одну за другой монографии, и вот уже готова докторская.
Все это втайне раздражало Кологрива, потому что и в книгах и в диссертации своей Таковой не шел дальше переложения краткого курса истории партии да щедрого комментирования работ классиков марксизма. Однако высказать все это открыто, при всех он не решался. Слишком уж деликатен был предмет, который сам по себе как бы охранял исследователя от критики.
Нет, Иван Иванович Таковой сидел в своей теме, как в крепости.
И Кологрив, хотя и знал истинную цену Таковому-исследователю, чувствовал себя перед ним бессильным. С не очень естественным оживлением он подвел итоги, отметил внесенный Иваном Ивановичем «серьезный вклад в науку» и совсем уже бодро и с достоинством выразил свое удовлетворение работой кафедры, которая не боится споров, дискуссий, ибо в спорах и дискуссиях только и рождается истина.
Возбужденный чувством хорошо исполненного долга, Иннокентий Семенович закрыл заседание, и все с шумом стали покидать запасной зальчик факультетской читальни, закуривая на ходу и обмениваясь между собой разными соображениями.
Виль Гвоздев и его товарищи не пропускали ни одной лекции. Даже Шулецкого, который читал почти в пустой аудитории, слушали добросовестно. Им нельзя было пропускать лекции, они были вожаками курса. Сидели вожаки не вместе, не одной группкой, а вразброс среди своих однокурсников. Изредка переглядывались, и этого им было достаточно, они понимали друг друга с полувзгляда. Сидел Виль Гвоздев, сидел Игорь Менакян и Тамара Голубкова, сидел голубоглазый очкарик Володя Саватеев. Володя поглядывал в сторону Тамары, а Тамара украдкой смотрела на Гвоздева. Даже здесь, среди вожаков предвыпускного, четвертого, курса, свил свое гнездо извечный треугольник: он — она — он.



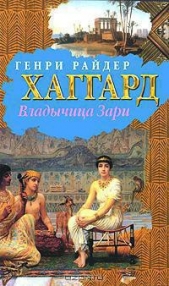
![Роботы зари [Роботы утренней зари]](/uploads/posts/books/10880/10880.jpg)




















