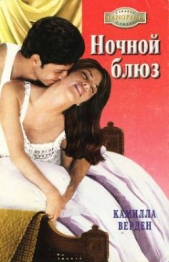Любостай

Любостай читать книгу онлайн
Владимир Личутин – один из интересных и своеобразных писателей «поколения сорокалетних», знаток и певец русской северной деревни, стойкого, мужественного характера коренного поморского народа. В книгу вошли повести «Вдова Нюра» и «Крылатая Серафима», принесшие писателю широкую известность в семидесятые годы, а также роман «Любостай», написанный во второй половине восьмидесятых, – о судьбе русского интеллигента, напряженно ищущего ответ на непростые вопросы времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Себя спасаете или других? – вдруг лениво спросил Бурнашов и тут понял свою маету: ему нестерпимо хочется растравить, раззадорить парней, чтобы открылись они и выдали некую великую тайну, поделились ею. И неуж они лучше чем, смышленее и доброраднее, если постигли самое возвышенное, мало кому доступное? А он, Бурнашов, прокаженный разве иль отпетый злодей и оттого к богу никак не приблизится, почитая его за игрушку, обман, потуги очарованного воображения, усладу больного ума. – Вот не верили – и вдруг поверили. На тебе, я ваша тетя. Это как понять?» – «Почему вы презираете нас, Алексей Федорович? Все утыкиваете, утыкиваете?» – грустно укорил Иван, уходя от ответа. «А я не терплю тех, кто не сомневается. Завладел игрушкой, тешится наодинку – и доволен. На всех ему наплевать с высокой колокольни». – «Неправда это, какая неправда. И мы сомневаемся. С чего вы взяли, что нет? Надо сомневаться во всем, но не для того, чтобы сокрушать каноны, истины и апостолов, но чтобы отыскать их. Не может же быть, чтобы они где-то не жили, тайные от нас».
Бурнашов поморщился: от речей кузнеца отдавало умыслом и чертовщиной, а писатель не любил двусмысленностей. «Но если апостолы тайные, то они уже не апостолы, – поддел он. – Апостол должен явить слово явное и пример. Так где они? Не слыхать что-то».
«Может, среди нас, ходят как все. Сирые и в рубище, едва подкрепляясь клюкою. И слово явят, и дело. Но мы, грешники, в спину их, по вые подзатыльником, отвергаем их слово и дело да еще и ржем по-жеребячьи».
«Словоблудие…»
«Нет-нет, только не это!» – испуганно остерег Иван и всмотрелся в зияющий, клубящийся чернотою провал двери. Он вздрогнул вдруг, ему почудилось, что Нежить, кружащая вокруг монастырских стен, наслала лазутчика, нашла тайный лаз, уловила прореху в броне и, шелестя крылами, устремилась на слабую братию. «Чур, изыди, – прошептал про себя, – крестом гражуся, крестом боронюся». Он сотворил крестное знамение и сразу укрепился шатнувшимся духом, проницательно взглянул на гостя. Свет от керосинки неровно падал на высоколобое лицо гостя, и глаза его в глубоко проваленных обочьях сейчас жестко розовели от жаркого внутреннего огня.
«Вот вы молоды, почти сын мне, – тихо сказал Бурнашов, отчего-то опустив глаза, будто сдаваясь на милость и полностью открываясь победителю этим признанием. – Но как вы постигли? Откройте, поделитесь тайной».
«Но можно ли поделиться тайной? Ее каждый открывает для себя сам. Это более, чем знание. Знание – это покрова, одежды, сорви их – а там бездна лишь и в самом центре ее витает, плавает некий дух. Трудно сорвать покрова, обнажить тайну, явить ее миру. Но почти невозможно принять в себя ее дух, коли закрыто ваше сердце. Вроде бы много открыто тайн, а они все одно остаются жить как тайны, ибо душа наша нема и безгласна к ним. Открой сердце, распахни и объяви: «Входи, боже, принимаю». Я читал вас, Алексей Федорович. Вы талантливы, вас бог отметил печатью, это факт. Но ваши сочиненья как чаруса, болотная бездонная хлябь. Все зыблется под ногами, нет укрепы. И вы сами таковы же, простите за резкость. Говорят, писатель – вместилище национального духа, смятения и боли. Но до какой поры, до какого часа? Вот вопрос. Лечить-то надобно светом! Укрепы дайте, укрепы, и народ нас возблагодарит…»
«Но я не верю в вашего бога! Чего вы от меня хотите?» – вскричал Бурнашов и сам, озлобленный возгласом, исторгнутым душою, испуганно взглянул на заворочавшегося на примосте Матвея.
«Это ваше дело. Вас никто не неволит».
«Где бог-то, где? Покажите мне его. Если бог видит, но так долго попускает неисчислимый грех, то где же его созидательная сила? Вот где воистину чаруса-то-о, бездонная хлябь. Сколько народу тут захлебнулось и потерялось, обезволев. Какого такого предела мировому безумью, этой вакханалии сатанинской ожидает твой бог? Ну! Чтобы насладиться земным адом и всемирным последним стенаньем? Отчего не остановит он сих двуногих скорпионов, жалящих самих себя? Но нет бога – и это истина. Все лишь бред и сладкая придумка дьявольщины. И скорпионы знают это и, прикрываясь именем мифического страдальца, лишь глубже впиваются, выедают мякоть материнского лона, чтобы перегрызть становую жилу земли. Оборотни, они жаждут трупятины. Вы с двух сторон навалились на матерь свою: одни – с машинным богом, другие – с распятым, оставляя после себя лишь развалины. И бесы торжествуют на пустырях…» – «Это гордыня в вас. Отсюда и мука, вы потому и здесь, – насмешливо уколол Иван, но тут себя и приструнил за невольное превосходство, переменил тон. – Если бы воистину не верили вы, так не страдали бы, не мучились. Потому и мучитесь, что бог-то возле, он стучится в ваше сердце. Так впустите его. Чего медлите? Идет последний бой меж Христом и Антихристом, и надо быть на чьей-то стороне. Не пристало ныне двоиться и таить личину». – «Старо все, – устало отмахнулся Бурнашов и зевнул. – Дух ушедших праотцов истек вместе с истлевшими костьми и ничуть не крепит человечество. Сном лишь живем и сказкою…» – «Неправду говорите. И вы сами знаете, что неправда. И ваши доводы не новей моих, времен французских просветителей, когда всякое вольное мечтание еще казалось добром. А впрочем, не странно ли? – Иван огляделся вокруг, словно бы отыскивая смуту, тайно проникшую в келью. – Мы все вроде бы хотим устроить жизнь, а упрекаем друг друга в желании погибели. Это и есть бесовское наущенье. Они всех хотят перессорить, а после и загубить поодиночке…»
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
«Если не спится, пойдемте со мною», – пригласил Иван, запалил толстый свечной огарыш в бронзовом стоянце и, заслоняя трепещущий слабый язычок ладонью, двинулся на выход.
Бурнашов уже остыл от возбужденья. Он поморщился, с тоскою глянув на желанное ложе, где, согнувшись калачиком, спал Матвей, но отправился следом.
Стояла паркая влажная ночь, но после прожаренной келейки она показалась поначалу прохладной, несколько мозглой.
Зачем-то отправились галдареей, по монастырской стене, крытыми переходами, сквозь круглые сторожевые башни и надвратную часовенку. Иван бухал сапожищами впереди, словно бы предостерегал, упреждал чей-то коварный умысел; ладонь, охранявшая пламя, была красной, просвечивала насквозь. Бурнашов шел следом, и в нем порою пропадало ощущение тверди: точно палуба шаткого корабля подбивала пятки и норовила ускользнуть из-под неверной ноги; мрак объял мир, густой, вязкий, в него, казалось, можно было забивать скрепы и взбираться по шатровому склону в горние высоты, где в разводьях порою проблескивало редкой звездой. Бурнашов просовывал голову в бойницу и, напрягая зрак, пытался уловить хоть какой-то намек на жизнь вовне; лишь где-то далеко, на дне черного разливанного половодья тлел огонек одинокой избы в заречной деревне. Мир настрадался на покосах и сейчас почивал, копил силы до новой зари, и лишь он, бездельник Бурнашов, середка ночи волочился, как праздный гуляка, по крепостным стенам, промысливая бог знает что. Народ наломался, пролил свой каждодневный пот за ради хлеба насущного, а он, полнокровный мужик, намерившийся стать деревенским хозяином, маялся, как объевшийся байбак, не находя себе места. Далеко внизу что-то пошумливало, шуршало и скреблось, едва намечалось сонное движение речной протоки под холмушкой, иль хотелось увериться Бурнашову, укрепиться духом, что внизу есть покой и твердь. Оттуда восходили слабые воздушные токи, как из ущелья, и от предчувствия непонятной высоты сводило икры ног, и порою вспыхивала безумная мысль выкинуться наружу. И так мыслилось, что не достигнешь и дна ущелья, как душа твоя поперхнется и вылетит прочь из разверстого в крике горла.
Зачем представлять, как бедствовали здесь монаси? Да и возможно ли понять, как жила монастырская братия, как пеклась о духе и пропитании, ибо без каждодневной выти не продлить и духа, а значит, не свершить и подвига во имя спасения ближнего.
Все неверно, десятая вода с киселя; чего не испытал, того и не передашь. Человек является на свет с тайною и вместе с нею уходит в домовину. Чего мается там, в своей заштатной хоромине на дальней выселке, одинокий поселянин? Сторожит кого? Иль дает знак скитальцу, зазывая на огонек и ободряя того в дороге? Иль горестно хуторянину, и сердце зашлось от внезапного ощущения близкой смерти, а помочь некому, не протянется к изголовью страждущая рука, и этот мытарь, оглаживая тоскующее сердце дрожащей ладонью, представляет уже, холодея от ужаса, как лежит усопшим, потерянный в забытой избе, и по его мертвому телу суетятся проворные мыши, выедают глаза, и ноздри, и уши. Есть ли что страшнее одиночества, когда ты еще не потерялся вовсе, но, постоянно и легко поминая смерть, однако каждой волотью стареющего тела еще хочешь жить, жить, жить неведомо для чего. Господи, сколько нынче одиноких на миру, в посадах и городах, средь торжищ и празднеств, в кипении улиц и скопищах залитых огнями домов! Боятся одиночества, горюют от него, жалятся и плачут, но и бегут к нему, как к неизбежной надуманной юдоли своей, ибо многими нынче правит гордыня. И всякого покоит и хранит смутная надежда, что в час ухода явится из ниоткуда верный человек, и закроет глаза, и проводит в бесконечный путь.