Одиночество
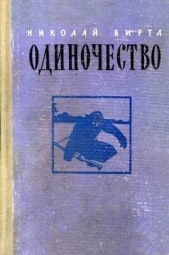
Одиночество читать книгу онлайн
Роман «Одиночество» рассказывает о событиях, развернувшихся на Тамбовщине в годы гражданской войны. В нем удивительным образом сочетаются драматизм и лиричность повествования, психологическая глубина характеров и жизненных ситуаций.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Федькина лошадь! Его конь, Татарин! — пронзительно закричал Афонька. — Тут он! — Потом вытянулся перед Петром Ивановичем, козырнул, сгибая корявые пальцы у шапки — Прикажете допросить старичка насчет Федьки?
Сторожев бросил цигарку, посмотрел на Кособокова, стоявшего на крыльце без шапки, в белой длинной рубахе, в штанах, опадающих на босые черные ноги, и важно молвил:
— Мне неудобно с ним разговаривать, я у него хлеб-соль ел. А тебе можно. Тебе почему не поговорить со стариком? Пускай он скажет, где Федьку схоронил. У меня с Федькой свои счеты, он в мою избу бомбу кинул. Бели ты мне, сукин сын, Федьку не найдешь, я с твоей спины ремни драть буду.
— Посечь можно, если язык у него не пойдет?
— Что же, — сказал Сторожев, садясь на приступку. — Посеки, ежели что. Не до смерти только, он мужик трудящий.
Афонька взмахнул плеткой и, тараща глаза, стараясь сделать лицо страшным, подбежал к Кособокову.
— Был Федька? — заорал он.
— Был, — тихо ответил Кособоков и переступил с ноги на ногу. — Были с Листратом вместе.
— А что же ты молчал, пес седой? — закричал Сторожев. — Что же ты молчал, подлец?
— Не спросил ты меня, Петр Иванович, о Федьке. Ты про Листрата спросил, это точно. Я и сказал. А Федюшку ты не вспомнил, что ж мне болтать?
— Ты мне куры-муры не разводи! Ишь, куры-муры строит, седой черт! Коммунистом заделался! Ты говори, где Федька? — взвизгнул Афонька.
— Не знаю, — твердо сказал Кособоков.
Афонька размахнулся плеткой и ожег ею Кособокова.
— Скажешь?
— Нет!
Свист плетки опять прорезал синюю прозрачную тишину дня.
Кособоков стоял, торжественный в своем упорстве, и только крупная мутная слеза катилась по его морщинистой щеке.
Сторожев трясущимися руками вынул револьвер, взбежал по ступенькам и, упершись дулом в живот Кособокова, глухо бормотал, брызгая слюной:
— Сволочь! Скрываешь? Сам найду, на твоих глазах кожу драть буду!
Кособоков мотнул головой. Сторожев с размаху ударил его рукояткой револьвера по голове, потом по животу. Старик, охнув, согнулся и тихо стал падать на землю, колотясь головой о ступеньки крыльца, пачкая их кровью.
Сторожев постоял, размахивая плетью, потом круто обернулся к отряду и приказал:
— Разноси!
Афонька хотел было вскочить в избу, но Сторожев перехватил его и, тяжело дыша, сказал:
— Все вверх дном перерыть, но чтобы Федьку найти! Без Федьки не показывайтесь, убью.
Афонька перемахнул через отраду в сад.

Федька лежал под соломой, и ему казалось, что нескончаемо длинно тянулись минуты, и эта страшная тишина беспредельна.
Солома колола лицо, мошкара забивалась в уши. Двигаться было нельзя, потому что каждое движение сопровождалось, как казалось Федьке, грохотом и треском. Кровь его бурлила, мутила сознание, и тогда в глазах делалось темно и сердце сжималось.
Потом сердце как бы переставало биться, и тишина наполнялась нестерпимым хрустом и шумом. Перед внутренним взором Федьки то доброе материнское лицо мелькало, то вставал какой-то давно забытый образ или обрывок чего-то виденного и пережитого; путались и бились мысли, гадливая мелкая дрожь поднимала тошноту.
В этой настороженной тишине, в бесконечном молчании ясного вешнего дня Федька услышал шаги людей.
Они шарили в кустах, заглядывали в постройки и шалаши, осматривали каждую рытвину и заросль, обошли сад, дошли до пруда и, наконец, натолкнулись на старый, слежавшийся соломенный стог.
Затаив дыхание, неестественно напрягая мускулы, так что ныло все тело, стиснув зубы, Федька слушал заглушенный соломой разговор.
— Разроем? — спросил один.
— Ну его к матери! Так пощупаем. Ежели тут, пискнет.
— Афонька!
— Ну?
— А может быть, и не было его?
— Дура ты тамбовская! Не было… Татарин-то чей? Вся округа его Татарина знает. Да и Василий Васильевич сказал, с Листратом они ехали.
Люди взобрались на кучу. Через миг стальное жало шашки прорезало слежавшуюся толщину соломы — около своей ноги Федька почувствовал ее холодное прикосновение. Федька сжался в комок и лежал с широко открытыми глазами, ничего не помня.
Шашки с шумом входили в солому, разрезали ее, вились около Федькиного тела, то проскальзывая мимо руки, то задевая волосы. Они, как змеи, извивались и окружали Федьку.
Голова у Федьки налилась огнем, челюсти онемели, тело помертвело.
«Не крикнуть, не крикнуть бы, — стучала мысль. — Не крикнуть бы, — кричало сердце, — не крикнуть бы, не выдать себя на растерзание, на страшную, дикую расправу, на смерть…»
И вот, когда мысль перестала работать и Федька стал погружаться в серый обморочный туман, в этот миг шашка прошла сквозь левый рукав, сквозь живое мускулистое мясо и глубоко вонзилась в землю. Потом, с силой выдернутая, очищенная соломой от крови, ушла снова наверх.
Нет, не выдал себя Федька, не крикнул.
Вне себя от бешенства, Сторожев избил Афоньку, поджег хутор и уехал.
Огонь пожирал избу, ригу и хлева, взметывались вверх языки пламени, когда Федька вылез из соломы.
Кособоков стоял неподалеку от пожарища.
Он был страшен в кровавом отблеске пламени. Капали слезы на землю, рыдания глухо вырывались из груди. Где-то в зелени деревьев глухо и беспомощно вопила Катерина, а кругом валялись клочки одежды, постели, разбитые горшки, столы и скамейки.
Кособоков увидел Федьку, повернулся к нему и сказал:
— Федя, дитятко, ты же седым стал! — И, припав к плечу мальчишки, старик зарыдал, вздрагивая плечами.
В этот миг Федька вспомнил мельника Василия Васильевича. Он перевязал раненую руку, проверил, заряжен ли револьвер, и пошел в Ивановку через кусты.
Светало, когда од постучался к мельнику. Василий Васильевич вышел и узнал Федьку.
— Иди, — сказал Федька, — молись, пока идешь, некогда мне.
Глава тринадцатая
Теплая, радостная шла весна.
Жирная, потная земля до отказа напилась вешними водами. По утрам стояли в полях тяжелые туманы.
Солнце приветливо улыбалось миру, ласкало землю.
Потянулась к нему молодая кудрявая трава, в голубом раздолье запел песню жаворонок, в лесу сосны и ели отряхивали с плеч зимнюю дрему, расправляли ветви и важно шумели.
Сладко пахло весной.
По утрам, когда розовая заря неровным отблеском ложилась на поля, страстными криками наполнялся лес, любовью и ревностью жил он.
С каждым днем прибавлялось тепло, уже на пригорках зазеленела редкая, несмелая озимь.
Черная жирная земля ждала мужика с плугом или сохой, бороной и сеялкой.
И он, как охотник, которого по весне знобит лихорадка, выходил на огороды, брал в руки тяжелые комья земли, вдыхая жаркий, сочный запах ее — разомлевшей от весеннего тепла.
Он выходил в поля и, тоскливо махнув рукой, уходил — не паханы с осени, зарастут бурьяном, лебедой.
Пахать бы сейчас самое время. А как пахать, если по полям носились полки и отряды, и гремели пушки, и стрекотали пулеметы там, где должна была звучать лишь песня пахаря.
Перед началом военных действий Антонов-Овсеенко поехал к Ленину.
— Сдается нам, — сказал ему Владимир Ильич, — что тамбовские крестьяне не знают решений Десятого съезда и наших последних декретов. Скрывает от них Антонов правду. Постарайтесь проверить это. Начинать надо, с того, чтобы как можно шире оповестить народ о новой нашей политике. Подумайте об этом.
И, как всегда, прав был Ленин. Тамбовский мужик не знал декретов советской власти. Вся страна жила ими и говорила лишь о них. До тамбовского крестьянина не доходили решения партии, не проникал голос советской власти, а если и проникал — появлялись агенты союза и навсегда зажимали рот тем, кто хотел донести до мужиков правду о новой жизни и новых порядках…


























