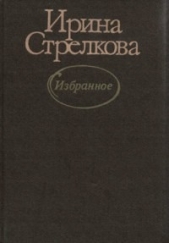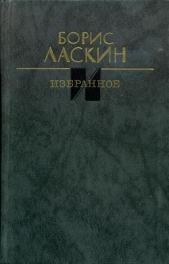Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Да, Сергей Иваныч подозревает меня, — мысленно сказал он, начиная быстро дышать от ужаса. — Но все равно! Он бы ответил, он бы так и написал… И он еще напишет!»
Прошла неделя. Он почти не выходил из комнаты. Часами он стоял у окна, глядя на узкий грязный двор, на грязных белых пекарей в круглых шапочках, таскавших с крыльца и на крыльцо — из пекарни в булочную — корзины с халами и хлебом. Наконец, когда никаких сомнений не оставалось, он решился написать Машеньке.
Упершись кулаком в подбородок, он сидел над этим письмом, и ему казалось, что он слышит за дверью ее шаги, робкие и легкие — туда и назад по коридору мимо архива. Она ждала, что он выйдет, — ведь он просто перестал разговаривать с нею, и она, наверно, думала, что так не бывает. Но он не окликнул, не вышел…
Старый Трубачевский испуганно поднял голову и отогнул ухо, услышав эти странные звуки — не то кашель, не то плач, — донесшиеся из комнаты сына. Но звуки не повторились, и, плотнее посадив очки на нос, он со старческой неторопливостью продолжал выводить свои ноты.
Он вспомнил, что в этом году едва ли три-четыре раза был в университете. Со второго курса остались хвосты, ни в одном семинаре третьего он еще не был записан, и вообще, если бы он не открыл десятой главы «Евгения Онегина», его уже давно выгнали бы вон за академическую неуспеваемость.
Прежняя уверенность вернулась к нему, когда он увидел знакомые ворота, будку, в которой спал старый знакомый сторож, длинный сводчатый пролет вдоль главного здания. Он порылся в университетской книжной лавке, заваленной «Справочной книжкой Оренбургской губернии за 1884 год» и школьными тетрадями в две линейки.
В университетском коридоре он встретил Климова и испугался, что маленький лопоухий редактор сейчас попросит у него статью для стенной газеты. Но редактор не попросил. Молча и не улыбаясь (хотя он всегда улыбался), он поздоровался с Трубачевским и, виновато моргая, побежал дальше.
Странное дело, точно с таким же выражением встретили Трубачевского Дерюгин, Мирошников, Танька Эвальд. Никто не спрашивал, где он пропадал, над чем работает, как его книга. С ним говорили, глядя в сторону, и только о том, о чем говорил весь факультет, — об «окнах в расписании», о новом ректоре, недавно назначенном на место покойного Коржавина. Как будто все были перед ним виноваты.
Спустя полчаса он сидел на лекции в пятой аудитории. Кто-то сзади дотронулся до плеча. Ему передали записку: «О тебе говорят вздор, которому я не верю».
Обернувшись, он нашел на «горе» рыжую голову, некрасивое умное лицо. Он знаками показал, что хочет поговорить. Репин знаками ответил: «Потом».
Не дождавшись конца лекции, Трубачевский вышел из аудитории. Он чувствовал тяжесть и холод где-то около сердца. «О тебе говорят…» Вот почему у них были такие лица!
Он обернулся, пройдя коридор до конца, и стал машинально следить, как открывалась и закрывалась на противоположном конце, дверь библиотеки и как появлялись и исчезали маленькие, склонившиеся над книгами люди.
Стенная газета висела на одной из витрин, он взглянул — и карикатура, нарисованная сбоку вдоль всего текста, остановила его внимание. Он не сразу узнал себя — так далек он был от этой стенной газеты. Но это был он. Головой он упирался в название, ногами — в подвал. Через его плечо висела корзина с пакетами, и на пакетах было написано: «Письма Пушкина», «Письма Гоголя»… Это был он. Он орал, закинув самодовольную морду и с увлечением перебирая рукой пакеты. Надписи не было, но изо рта, окруженные петлей, выходили слова: «А вот кому!..»
Трубачевский стоял, чувствуя, что тяжесть и холод на сердце становятся все тяжелее и холоднее. Ему захотелось сию же минуту уйти из университета, Но он не ушел. Бледный, иронически улыбаясь, он встретил Репина у пятой аудитории. Молча они вышли на набережную, и Репин, мельком взглянув на Трубачевского, удивился, что можно так похудеть в полчаса.
— Послушай, я уверен, что это вздор, — медленно и, как всегда, немного запинаясь, сказал он. — Но все-таки — в чем дело?
Они дошли до Академии художеств, вернулись и снова дошли. Стараясь говорить ровным голосом, Трубачевский рассказал, в чем дело. Он сделал это очень плохо. Вдруг ему стало ясно, что в этой истории есть вещи, которые очень трудно или почти невозможно передать университетскому товарищу, с которым он никогда не был особенно близок.
Он не довел бы свой рассказ до конца, если бы Репин, с его ясной головой, дважды не вернул его к тому месту, с которого начиналась путаница. О Варваре Николаевне не стоило упоминать — слишком сложны были объяснения.
— А этот листок, который ты нашел в пальто, — спросил он, когда Трубачевский совсем запутался и полез за носовым платком, — ты его Бауэру показал?
— Нет.
— Почему?
— Да просто потому, что в тот день ему выкачивали желудочный сок и меня не пустили.
— А потом?
— А потом его отправили в больницу.
— Но ты сказал, что он через месяц вернулся?
— Да.
— Ну?
— Да, я говорил, с ним, — с досадой возразил Трубачевский. — А попробуй-ка ты сказать человеку, которому, может быть, всего-то осталось жить какие-нибудь полгода, что у него сын — вор и что после его смерти от этого архива, который он собирал сорок лет, не останется камня на камне! Он бы все равно не поверил!
Репин нахмурился.
— Нет, он бы поверил, — возразил он, помолчав. — Ну хорошо. А где же он теперь, этот листок? Ты вернул его Неворожину?
— У меня, — упавшим голосом сказал Трубачевский, — я над ним работаю. Понимаешь, это как раз продолжение того отрывка, который я расшифровал. Очень интересно, черновик… И, кроме того…
Репин пожал плечами, и в глазах появилось тоскливое выражение. Это было неясно, а неясностей он не выносил.
— Ну, вот что. Во-первых, нужно настоять, чтобы карикатуру сняли; во-вторых, нужно сегодня же отослать листок Неворожину; в-третьих…
Хотя разговор этот ничем не кончился, Трубачевский, вернувшись домой, немного повеселел. Почтовый ящик был пуст, но он все-таки открыл его и посмотрел, не застряло ли где-нибудь письмо, хотя застрять было, кажется, негде.
Автограф Пушкина лежал на столе в плотной, слишком большой для него синей папке. Он открыл папку: четвертка бумаги, исчерканная вдоль и поперек, и профиль в колпаке — Вольтер, как раз у той строфы, которая помогла разгадать шифр:
Пушинка села на листок, он бережно сдул ее и, пробежав разобранные прежде строфы, дошел до новых:
Здесь он остановился месяц назад. Он мог бы за этот месяц разобрать все, до последнего слова, мог сличить этот черновой незашифрованный текст с чистовиком из бауэровского архива, мог, наконец, просто снять с него фото. Ничего не сделано. Завтра или даже сегодня он отошлет его Неворожину, и единственная уцелевшая страница из сожженной главы «Евгения Онегина» будет потеряна для него навсегда. Неворожин продаст ее. Годами она будет лежать среди бумаг какого-нибудь старого неудачника, унылого буквоеда. Быть может, Щепкин напечатает ее с комментариями, в которых припишет себе всю честь разгадки!
Трубачевский вздохнул и вынул из ящика стола лист почтовой бумаги. «При сем прилагается, — написал он быстро, — пушкинский автограф, которым я не желаю пользоваться, зная, что он принадлежит Вам».
Вместе с этой запиской ом бережно вложил автограф в конверт и запечатал. Потом, вспомнив, что нельзя писать адрес на конверте, в котором лежит пушкинский автограф, он с такой же бережностью вскрыл конверт и положил автограф в другой, на котором адрес был уже надписан.
Очень медленно он принялся мазать слюной полоску клея. Голубоватый полупрозрачный уголок торчал из конверта, и на нем как раз то слово, которое он несколько раз пытался разобрать — и неудачно. Он посмотрел на него через кулак, как Бауэр, и, бормоча, прикинул два, три, четыре варианта. И вдруг прочел: «тенистой». Вся строка, стало быть, читалась так: