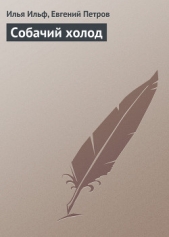Ладожский лед
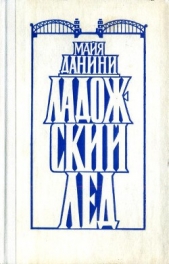
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мама или бабушка — кто водил меня — выбивались из сил, стараясь объяснить мне, как удивительно контрастируют лица и темные одежды, как великолепно написан бархат, а я рассеянно верила всему их потоку слов, не находя ничего сверхъестественного в этих некрасивых, на мой взгляд, лицах и толстых фигурах.
Из музея приходила и углублялась в свои картинки. Долго, часами разглядывала старые гравюры: подробные, вычурные фигуры, благородные до невероятности лица, неподвижные, засахаренные, милые своей знакомостью, своей возвышенностью и еще тем, что, рассматривая эти картины и зная их наизусть, могла вдруг в уголке найти какую-то кошку, которая тут же ела косточку или даже мышь, а в другом уголке найти цветок или рабочую корзинку и котенка, который катал клубок. Эта находка в картине была мне так приятна, что я настраивалась особенно весело и благодушно, в то время как из картинной галереи могла прийти со слезами и раздражением: не любила сразу много картин, не могла их все запомнить и вместить в память.
Много лет спустя — уже после блокады и эвакуации — пришла в Эрмитаж все с той же детской неприязнью и еще с голодным раздражением и все-таки не хотела, не могла видеть никаких картин, пока постепенно не прониклась сперва Дюрером, потом Боттичелли, потом Брейгелем. И вдруг узнала, что все это может не только нравиться, но и угнетать, что может быть таким прекрасным, что уже становится страшным для тебя.
Глава двадцать четвертая
СНЫ
Так часто вечером казалось: невероятная тяжесть теперь навсегда камнем лежит на душе, ее никогда не сбросить с себя, все, что было хорошего, — кончилось, и теперь начинается настоящая смерть, но засыпала и просыпалась светлая, как день, ясная, совершенно забывшая, что было плохого и тяжелого вчера и что́ именно так угнетало.
Видела сны, а во сне все страшное растворялось и улетучивалось, забывалось, как будто и не было. Сны оставляли свое настроение. Сны были и страшные, и легкие, причем легкие сны могли быть по сюжету очень страшными, и наоборот. Могло казаться страшным то, что в самом деле было вовсе не страшно, если я рассказывала об этом. Страшный сон о том, что я куда-то бегу, падаю, не могу бежать, хотя я совсем не знаю, кто меня преследует и от кого я бегу. Нестрашными были сны о том, что кто-то убивает кого-то при мне или даже меня убивают.
Самый страшный сон я сначала видела как самый радостный: какой-то вечер, и на вечере я что-то говорю, веселюсь, и все смотрят на меня, потом вдруг все отворачиваются разом, и я пытаюсь всеми силами вернуть к себе внимание, но все тщетно — никто не слушает. Помню, что после очень долго плакала во сне и когда проснулась — тоже. Казался сон вещим и тяжким: вечно боялась повторения этого сна наяву.
Раздумывая над этим сном, поняла, что дело не в том, что видишь во сне, а в том, как ты настроен во сне — хорошо или тяжело. Радостный сон мог продолжаться радостью наяву. Он будто так и случался — надолго: мог длиться и на следующую ночь, и еще одну ночь, не повториться, но длиться, и помнился отчетливо до малейшей детали.
Все скрашивалось этим сном, и хотелось спать наяву, то есть чувствовала, что спишь наяву, — и так оно и было.
В такие дни я казалась всем странной, отвечала невпопад, не очень видела всех вокруг и любила эти свои состояния. Они казались такими вдохновенными, в то время как все кругом считали меня в таком состоянии тупой. Чем глубже было состояние полусонного, полуявного блаженства, созерцания чего-то, тем смешнее было то, что ты делал, говорил в самом деле.
Во время войны я работала в поликлинике, училась, была во всяких кружках — и уставала страшно. Тогда именно были сны такими глубокими и радостными. Тогда часто спала наяву, особенно когда ложилась спать поздно и вставала рано. Шла в поликлинику и прилаживалась к собственной походке — спала и шла. Получалось это плохо, но все-таки голова отключалась совсем. Мешал только холод. Все думала тогда — как люди замерзают, они же должны совсем отключиться, а отключиться на морозе так трудно, все время меня будил мороз, пока я шла.
Но вот я приходила на работу, тепло окутывало меня, и тут я засыпала совсем легко. Я быстро погружалась в глубокий сон с открытыми глазами.
Меня звали, спрашивали о чем-то, посылали, велели, ждали, а я спала и спала. Делала все машинально, делала просто так, как случится, чтобы только не разбудили меня совсем, не дали прерваться такому состоянию, в котором я могла существовать. Спать хотела смертельно. Казалось, если бы мне разрешили — спала бы двое суток, дольше, а пробуждение было похоже на болезнь: все было так безобразно, а холод и работа — совсем мучительны и невыносимы. Но вот наступал обед — я просыпалась до какой-то степени, потом школа, и тут, как ни странно (третья смена), я просыпалась окончательно, резвилась, была быстрой, сообразительной — не отличалась от тех, кто не работал, а работали многие и, придя с работы, чаще всего спали на уроках. Я просыпалась окончательно и тут только вечером и существовала наяву, а не во сне, как на работе.
Те сны — младенческие и в юности, во время войны, — были похожи на дивные фильмы вроде «Дороги», где все происходило так, будто во сне, а не наяву, где каждое движение человека — актера — будто случайно, а на самом деле вполне закономерно, но движется все по законам сна, где все может быть и один и тот же человек может превратиться в другого, быть тобой и не тобой одновременно, делать что-то странное, бессмысленное, но по законам сна не бессмысленное, а такое значительное, особенное.
Помню сон, как я брожу по извилинам своего мозга и будто они — пещера, а в конце концов нахожу синюю гостиную (вроде гостиной тети Мани), где старинные миниатюры так контрастируют с белыми мраморными фигурками, а бронзовые подсвечники гармонируют с бронзовыми рамками. И на полосатом шелке диванчика сидит кто-то в чепце — не тетя Маня, но кто-то похожий на нее — и говорит мне, что все красивое сосредоточено в этой комнате и эта комната и есть — понимание, и я действительно в восторге просыпаюсь примиренной и понимающей. Но наяву являлся вопрос — а что же я понимаю? И не могла ответить, хотя чувствовала, что отныне что-то знаю. По сию пору хочу найти разгадку тому странному сну и состоянию.
Это состояние было похоже на вдохновенное чтение: прекрасно бродить по собственному сознанию, думать — прекрасно, наслаждаться мыслями, даже если мысли неуловимы, не выражены словами.
Глава двадцать пятая
ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ЖИВОТНЫХ
Выцветший от тепла батареи, от солнца, от старости аспарагус, его длинные пряди щекотали мне щеки, если я проходила мимо и задевала его. Я всегда задевала его нарочно, может быть от этого он и побелел совсем.
Его легкие веточки были похожи на волосы Амалии Павловны, такие же тонкие и белые, совсем как паутинки (Амалия не выносила паутины, и всякую пыль, какую там пыль — всякую пылинку, отдельную пылинку или паутинку, она видела, замечала и тотчас же вытирала, убирала и начисто промывала тряпочку после этой операции), но собственные волосы она не могла обмести, как паутину, их приходилось расчесывать и укладывать каждое утро в гладкую прическу, которая мне напоминала венскую булочку, посыпанную пудрой.
Концы ее волос сохраняли некоторый оттенок каштанового цвета, но я, разглядывая ее волосы, думала, что эти кончики просто порыжели от времени, как старое кружево.
Амалия любила свой аспарагус, как и все цветы, и всегда сетовала, что аспарагус сохнет и становится бесцветным. Она будто не замечала того, что я, проходя мимо окна, непременно задеваю аспарагус, а говорила пустоте:
— Как жаль, что цветок гибнет.
Я слышала в ее словах упрек, но все равно трогала аспарагус: уж очень заманчиво было его щекотанье. Будто кот задевал меня усами, толстый кот той же Амалии, кот, которого она очень любила, а у меня с ним — так же как и с ней — были очень сложные отношения.