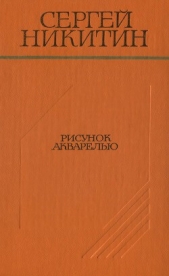Рисунок акварелью

Рисунок акварелью читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
7. Шрапнель.
Прап. Ладыгин.
Первое письмо денщика
Ключи чемодана со мной в случий буду убит.
Милостливийший Государь Василий Лаврентич!
Кланяясь Вам и Вашему Семейству С почтением.
Покорнейше прошу Вас В. Ла. Сообщить мне Адрис Вашего сына Евгения В. прапорщика Ладыгина. Очень Нужна я его денщик как остался при вещах. Но вещи мне пришлось Сдать в обоз второго разряда, а я остался по приказанию начальства в строю второй Роты. Он Уменя Заболел Сперва Экземой а последнее время У него Повысилась температура до сорок градусов.
Я Ходил Кнему в лазарет, но его Уже Не застал. Отправлен дальше, а куда не мог достать Сведения. Вот я уже жду его месяц и не могу дождаться и письма нет. Думаю разве Сильна болен или нет живова, а если бы Умир было бы в приказе, Спаси Бох отсмерти такова Человека ему все желаем пожить и все Им довольны Он не гордился и Нижних Чинов не обижал Я и Рота Обним Скучаем и когда только дождемся.
Шоколаду шесть плиток я получил на его имя из московы брат прислал Это я одну признаться Скушал а остальные в чемодане и семь писем на его имя все собрал в порядок до его приезда, но я вряд ли его увижу. Завтра говорят в наступление, в чем и беда мне без Евгения Василича подошла. Как знаете его Адрис Покорно прошу сообщите.
Желаю Вам На илучшего и перед Вами извиняюсь за беспокойствие.
Денщик пр. Ладыгина Аверьян Трафимович Галаев. 2-й Роты 4 Взвода.
Письмо девятнадцатое
Дорогие мои!
Не сердитесь, что так долго молчал, и не беспокойтесь обо мне: был болен и писать не мог. Болезнь пустячная, но писать не давала да и сейчас еще плохо дает — больна правая рука.
Расскажу коротко, в чем дело.
В начале марта мы встали на позицию, а примерно в середине месяца на нашем фронте у австрийцев появилась новинка — бомбы с удушливыми газами, и угощать этой новинкой они стали как раз нашу роту.
Когда привыкнешь к ним, то бомбы эти — ерунда, но по первому разу был у нас большой переполох.
Как-то вечером я осматривал новые окопчики для передовых постов. Вдруг слышу — австрийцы открыли огонь из бомбомета по моей роте. Побежал туда, где слышны были разрывы бомб, и по дороге чувствую, что пахнет чем-то вроде чеснока и начинает есть глаза. Сразу смекнул, в чем дело, пробежал еще немного по окопам, распорядился, чтобы люди надели очки и маски, и понесся в свою землянку. Схватил там свою маску, налил в горсть гипосульфита из бутылочки, смочил маску, надел ее, очки и покатил опять в окоп, не успев вытереть руки.
В окопе уже здорово воняло газом. Некоторые солдаты, потерявшие маски, корчились на земле: их рвало и ело глаза. Я их сейчас же отправил в тыл. (Все они благополучно поправились на другой день.) Остальные же, похожие в своих очках и масках на каких-то чудовищ из «Вия», стояли уже наготове с винтовками в бойницах. Пронесли одного раненого, другой — контуженный, — охая, проплелся сам.
Газ все же забирался под очки и маску, ел глаза и затруднял дыхание, но не сильно. «Черт» оказался не таким страшным, как его малюют. После этого австрийцы пускали на нас бомбы с газом довольно часто.
Единственным последствием всей этой истории было лишь то, что от гипосульфита, которым я смочил себе правую руку и дал ему на ней засохнуть, у меня через несколько дней появилась какая-то сыпь, которая постепенно развилась в «нечто экземистое», как сказал потом доктор.
Все же я достоял на позициях, отойдя же в резерв, показался врачу. Он сказал, что у них нет лекарств в полковом околотке и что мне придется уехать в дивизионный лазарет. Но я ехать с этой ерундою отказался и попросил его выписать лекарства сюда. Так протянулось время, а тут у меня прибавилась инфлюэнца с высокой температурой, и врач настоял-таки на отправлении в лазарет, помещавшийся верстах в семи от нашего полка в маленьком еврейском местечке. Тут я провел с неделю. Инфлюэнца благополучно прошла, но на руке к экземе прибавилось воспаление лимфатических сосудов, и меня направили дальше — в Ровно, где я и нахожусь сейчас.
Валяюсь целые дни на кровати, отчаянно скучаю и брюзжу. Ровно, который шесть месяцев назад был для меня «фронтом», теперь уже в моих глазах, бессменного «окопного сидельца», — глубокий тыл, и я им очень недоволен. Все не нравится мне здесь: и блестящие фигуры штабных, которых, по-видимому, меньше всего интересует война и которых здесь очень много, и «патриотические» разговоры и предположения лежащих со мною местных военных чиновников.
Теперь мечтаю только об одном: скорее бы поправиться — и в полк, к своим ребятам, — отдохнуть душой от впечатлений тыла…
Напишите мне, как встретили вы 1 Мая, был ли у вас какой-нибудь пикник. Я встретил май скучно — в госпитале. Одно хорошо: у нас уже давно цветет сирень, и ее большие букеты на наших окнах напоминают мне о мае.
Ваш Женя.
Письмо двадцатое
Дорогие мои!
Вчера, по выздоровлении, я вернулся в полк и попал, как Чацкий, с корабля на бал… Еще подъезжая к последней станции, я уже слышал отдаленные звуки артиллерийской подготовки, а потом ехал двадцать пять верст до полка все время при звуках артиллерийского боя.
Подъезжая к расположению полка (мы стояли в резерве), я увидел, что полк уже выстроился в полной готовности к выступлению.
Успел только наскоро явиться к полковнику, был опять зачислен во вторую роту, но уже младшим офицером, так как ротный командир был уже, конечно, назначен другой. Наскоро переоделся, заменил шашку более скромной лопатой и скатал шинель в скатку.
Через полчаса наш батальон был двинут на поддержку уже дерущемуся полку…
Теперь пишу при интересных условиях: наша рота стоит пока в резерве — в тех окопах, где наши стояли зимой. Наступающие части впереди, у австрийских проволочных заграждений. Со всех сторон гремит наша и австрийская артиллерия. Сплошной гул. Отдельных орудийных выстрелов почти не различишь. От этого грохота у всех нас болит голова. Мимо нас «оттуда» несут раненых; легко раненные и контуженные идут сами. К нам сюда залетают только редкие снаряды, потерь пока, слава богу, нет, но передним приходится туго. Часа полтора тому назад двинули вперед нашу первую роту, а теперь у нее около сорока человек потерь убитыми и ранеными. Через час-два, вероятно, наступит наша очередь. Настроение спокойное и сосредоточенное.
Родные мои! Чувствуете ли вы, что в этот день мы здесь деремся и умираем за вас и за общее дело?
Известия об этом, слава богу, до вас дойдут еще не скоро, и вы сейчас, наверное, спокойны. Знай вы, что творится здесь сейчас, сколько сердец сжималось бы теперь тревогой.
Не могу больше писать: артиллерийская стрельба замолкла, несколько времени было затишье, а теперь поднялась отчаянная ружейная и пулеметная трескотня. Должно быть, наши пошли в атаку. Сейчас узнаем по телефону.
Пока прощайте, мои дорогие. Если даже наше дело не завершится победой, не думайте о нас плохо: помните, что мы были честны и сделали, что могли.
Ваш Женя.
Операция окончена, и вся наша рота уцелела. Ночь работали под огнем и — почти чудо — ни одного человека не потеряли.
Мы сейчас в резерве, а скоро, говорят, оттянут нас назад. Бой еще идет, но это уже только отголоски вчерашнего боя.
Рад вам сообщить, что теперь довольно долго можно быть спокойным за меня.
Ваш Женя.
Последнее письмо, доставленное денщиком после смерти Ладыгина
Вечером третьего дня, вскоре после того, как я вам отправил предыдущее письмо, у нас начал обозначаться отход австрийцев. Замолкла их тяжелая артиллерия, постепенно начала замолкать легкая, а потом стихла совершенно, и только ружейные пули продолжали как-то высоко и неуверенно лететь над окопами.