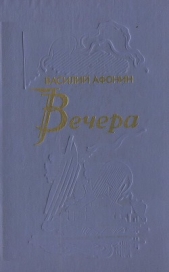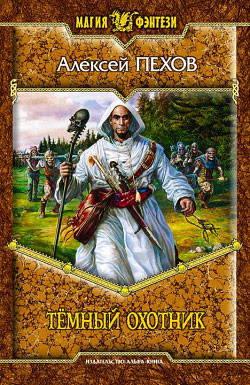Последняя осень

Последняя осень читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это были последние мои дни в Юрге. Листья падали, улетали, уносимые ветром, а я лежал на траве под осиной, на краю заброшенной Староконной дороги, рядом с безымянным болотом…
На третьей неделе сентября погода изменилась. Все держались хорошие дни, а тут полезли с севера, из-за сосновых лесов тучи и низко так закрыли небо.
Случалось, днями не видели солнца — пи восхода, ни заката. Темнело рано, ночи стояли холодные, и все ветер, ветер. Я зяб на чердаке. Проснешься — слышно, как ветер треплет тополя. Утром сыро, на колодезном срубе, крыльце, крыше сеней — мокрые тополиные листья.
Я перешел к Савелию.
Выйдешь на крыльцо покурить — темь, глушь, а еще девяти нет. В июле в эту пору солнце на закате, никто не спит, только — только коров пригнали…
После картошки ходил я за клюквой. На озерах рвали давно, прошло в верховье много машин (от поворота Шегарки до озер болотом еще километров восемь), и через лесника доходили до нас самые невероятные слухи. Рассказывал он, что клюквы нынче — хоть лопатой греби, нарывают за день и по пять и по семь ведер, а что ведро — два, так и ребенок наберет. Но и народу сбилось — не повернуться, бабы в избушке спят, а мужики возле костра. А какой у костра сон — ночи сырые, болото под тобой. Если с вечера выпьешь да ночью добавишь, так поспишь немного, а без этого лучше не ложись — простудишься. Это сколько же водки надо, если жить там неделю — две? И клюквой не оправдаешь. Потому лесник и вернулся, пробыв два дня. Теперь он рвал на болотах, лежащих вблизи деревни. Я предложил ходить вместе — лесник отказался. Он рвал на продажу, вдвоем с женой, и лишний человек был им совсем ни к чему.
Клюква мне особо не была нужна, просто хотелось сходить в сосновый бор, давно не был в нем. И нарвать немного — старикам на зиму и себе с ведро, привезти городским в гостинец.
Пошел один за Кулешовы острова: на краю деревни, возле дороги, по которой я уходил, жили некогда Кулешовы. Потому дорога так и зовется и острова — сухие, поросшие осинником места в сосновом бору — Кулешовы. Ходу туда часа два всего, если по дороге. Но дорога заметна только от деревни, в лесу я потерял ее и заплутал скоро. Пошел наугад. Без солнца ориентироваться ни умею, ни компаса со мной, пи собаки, сосняк кругом одинаковым: частый, мелкий; попробуй угадай, в какой стороне острова, в какой — деревня.
Покружил вдоволь, наткнулся на звериную тропу, и она вывела меня на знакомые места. Медведь здесь совершал переход из малинника в малинник или лоси пробили путь на водопой — не знаю. После того дня тропа служила мне дорогой в сосновый бор.
Краем бора, где останавливался, клюква уродилась неважная, болота лежали за широкой полосой ровного сосняка, да идти туда не хотелось. Но и здесь, как бы ни лепился, все равно за день набирал ведро. Иной раз меньше. Попадалась брусника.
С утра я старался, а когда надоедало и уставала спина, вешал рюкзак на приметную сушину и ел бруснику, не отдаляясь шибко от троны. Иногда, заметив моховую кочку в спелой бруснике, протянешь над кочкой руку и тут же отпрянешь, не успев опустить ее. Из брусничника, мгновенно расправив сложенное в кольцо тело, с шипением узко блеснет змея. Стоишь, вздрагивая от омерзения и минутного испуга, а пока кинешься выломать палку, змеи уже нет.
Если день держался солнечный, в бору весело. Тогда, нарвав клюквы, садился я на валежину и сидел лицом к солнцу, сняв шапку и расстегнув куртку. Запах нагретой хвои и багульника держался вокруг. Стволы сосен, мох, карликовая березка по нему, валежник — все освещено солнцем. Мох стал зеленее, стволы светлее. Из птиц в бору слышно одного дятла. Вдруг, подняв голову, заметишь на нижнем суку белку. Когда сидишь тихо, она спокойно смотрит на тебя. Но стоит пошевелиться — метнется вверх по стволу и скроется в ветках. Только хвост мелькнет. Но такие дни уже редки. Обычно с утра сумрачно, трава сбочь дороги в росе, пока дойдешь до бора — плащ сырой. Голенища болотных сапог подняты — иначе промочишь ноги. Если к двенадцати солнце не проглянуло, то и не будет его, не жди. В бору угрюмо, мокро. По верхушкам сосен ходит ветер, крикни — голоса своего не услышишь. Клюкву в такие дни рвать плохо, она прячется во мху, и нужно низко наклоняться. В шестом часу в бору темнеет, стараешься раньше выйти в поля. До них — краем бора, еще по кочкам, перелезая валежники, через неширокую, не более километра, полосу старого березового леса, заросшего камышом. Дальше — ровные места, по ним до деревни самой тянутся перелески.
Тропа то виляла полем, то ныряла в осинники, я шел не торопясь, по всегдашней привычке держа ружье в руках, стволами вниз. Траву обдуло, и она шуршит, задетая полами плаща. Несколько раз из травы, высокой и такой густой, что она не могла полечь под ветром, а только наклонялась, с треском подымались тяжелые глухари, я стрелял, но всегда далеко. Теперь уже я знал, где сворачивать с тропы, чтобы попасть на дорогу, — в самом ее конце. Здесь всегда отдыхал на широком, низко срезанном пню, скинув рюкзак и поставив под дерево ружье. Если оставался хлеб, разворачивал газету, доставал из бокового кармана пузырек с солью, присаливал и медленно ел, ощущая языком и деснами вкус черного хлеба и соли. Сумерки густели, а с ними подымался туман. Я старался захватить миг его рождения и всегда пропускал. Глядь, он уже выстелил дорогу зыбкой белесой пеленой, поднялся выше, вот и пень, на котором сижу, скрыл, подступил под нижние ветки осин и берез. Когда же плотный, сизоватосиний, скрыв траву, он устанавливался на одном уровне, казалось, что деревья срезаны, поставлены на туман и стоят на нем, опираясь ветвями. Туман приносил сырость, и запахи проступали явственней. Из осинников густо тянуло грибами, с дороги подымался резкий, кисловатый запах палого волглого листа, к нему примешивался запах хвои. Находясь день на воздухе, я не чувствовал усталости, слабости и мог идти далеко.
После хлеба, как никогда, хотелось курить, я закуривал и долго еще сидел на пне, прислонясь спиной к дереву, раскинув и вытянув ноги. Дым тянулся поверх тумана и смешивался с ним.
Становилось темнее. Я вставал, брал рюкзак, ружье и шел как бы ощупью, не видя ног своих, по грудь в тумане. Выйдя из-за кустов, с трудом различал дворы. Изба Савелия стоит сенями к лесу, и мне долго не виден в окнах свет, пока не выйду за поворот. Как бы поздно ни возвратился, они со старухой не ложатся, ждут.
Подхожу к усадьбе. Пес, так и не привыкший ко мне, рвет цепь. Старик выходит на крыльцо, кричит на него.
— Опять в темноте, — говорит он, принимая ружье. — А я уже пострелять хотел, заблудил, думаю. Далеко холил нынче?
— За вторую просеку. — Я сбрасываю в сенях надоевшие за день сапоги. В избе светло, теплом тянет от печки, на плите чугунок с картошкой, чайник. На столе молоко, хлеб, соленые огурцы. Умываюсь, прохожу к столу. Старики уже поужинали, но я уговариваю их сесть со мной. Долго пьем чай, я рассказываю, где был и что видел за день, как потерял просеку и пошел дальше на север. Савелий усмехается моему неумению ходить по тайге, а старуха охает и качает головой…
И подошла пора уезжать. Обошел всех, кто жил еще в Юрге, прощаясь. Собрал рюкзак, и мы пошли с Савелием, я — к своей усадьбе, он — к леснику за лошадью, отвезти меня до Каврушей — оттуда машина уходила до узкоколейки. В избу заходить не стал. Закрыл наглухо ставни, забил теми же досками сенную дверь. Сходил в баню, взял ковш, от крыши сеней отломил кусок замшелой тесины. Положил в рюкзак и сидел в ограде на колодезном срубе, пока не подъехал Савелий.
Проехали мост, свернули на дорогу. Избу скрыло, я это спиной почувствовал. Выбрались за деревню, я слез с телеги, дождался, пока Савелий отъедет за кусты, повернулся и простился с Юргой.
До Каврушей доехали скоро, на въезде остановились.
— Ну что, Савелий, простимся. — Я положил на траву рюкзак.
— Матери поклон не забудь. — Старик стоял возле подводы, не зная, что делать с вожжами. — На будущий год приедешь попроведать, Егорыч? Приезжай.