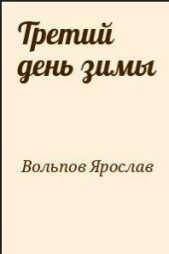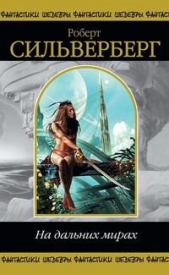Две зимы и три лета

Две зимы и три лета читать книгу онлайн
Федор Абрамов (1920–1983) — уроженец села Архангельской области, все свое творчество посвятил родной северной деревне.
Его роман «Две зимы и три лета» охватывает период 1945–1948 годов и рассказывает о героическом труде жителей деревни — женщин, стариков и подростков, взваливших на свои плечи тяжелую мужскую работу их отцов и сыновей, ушедших защищать Родину и погибших на полях сражений.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут заплакали двойнята — жалко стало дорогого братца, мать вступилась за малого, и Лизка, вся расстроившись, так и не добилась от Федьки всей правды. Только потом, много позже, рассказал Михаил, из-за чего сыр-бор загорелся.
— Я ведь ему царские условия создал, ей-богу. Огонь развел, чтобы гнусу вокруг меньше было — здоровенную валежину припер, траву выкосил. Лови, парень, рыбку, накорми свежей матерь. Ну парень постарался. Ельца из речки вытащит, да на живые угольки, да в брюхо. Ей-богу! Лежит, похрапывает у огонька, травкой сверху накрылся — никакая муха не укусит, а морда у самого вся в рыбьей чешуе. Как коростой заляпана. Ну меня затрясло. Ах ты подлюга, думаю! Так-то ты наказ мой сполняешь. А тут еще глянул — соль у него на газетке. Это чтобы рыбка свежая лучше в горлышко проходила. Понимаете? Он, гад, загодя, еще с вечера этой сольцы отсыпал, все предусмотрел. Вот что меня окончательно допекло…
Так рассказывал Михаил, и рассказывал со смехом, а тогда им было не до смеха. Время идет, Михаил куда-то пропал — нет на пожне. Что делать? Глядя на луг, надо бы взять грабли да загребать сено. Ну а вдруг да у него другое на уме. А, скажет, столько-то сообразить не можете!
Долго, не меньше получаса, стояли они у избы, томясь от неизвестности и беспокойно поглядывая на пожню, в ту сторону, куда ушел брат. Наконец брат показался. Вышел из кустов — голова мокрая, на солнце сверкает (купался, значит) — и начал загребать сено.
Лизка с облегчением сказала:
— Пойдемте и мы. Давно бы надо идти. Бестолковые мы с вами, ребята. Кто это станет ругать за работу? А ты, бес, — сказала она Федьке, — на глаза не смей показываться. Чуешь? — Лизка, как надо, нахмурилась и для порядка отвесила тому легкий подзатыльник. — Покамест платом не махну, чтобы духу твоего на пожне не было.
Тихонько, неуверенно спустились к ручью, вышли на закраек пожни. Сено сухое. Дух хороший. Ветерок из-за Синельги прыснул.
Лизка крикнула:
— Откуда нам загребать?
Ни слова — не прошла еще злость. Охапку сена швырнул — только шум пошел по пожне.
Мать вздохнула, и Лизка на этот раз рассердилась не на шутку: как это можно так довести себя, чтобы родного сына бояться?
Лизка сказала с сердцем:
— Загребайте отсюда. Все равно и это сено когда-нибудь надо сгребать.
Работали быстро. Все старались — мать, и ребята, и она, Лизка, просто бегали с граблями по пожне, потому что понимали: ежели и можно чем угодить сейчас Михаилу, так это работой.
И верно, Михаил мало-помалу начал поглядывать в их сторону — сперва вроде как на солнышко, а потом и на их сенные перевалы.
Тут Лизка решила окончательно добить брата — наслать на него двойнят.
И стали Петр да Григорий к старшему брату подходить. Тихо, медленно. Грабёлками по сену шасть-шасть, а сами все ближе, ближе к белой рубахе. И вот уже подобрались — забегали, замахали грабёлками вокруг брата.
А еще спустя какую-то минуту Михаил подал голос:
— Мати, вы чего там на отшибе? Первый раз на пожне?
То есть это означало: сколько еще можно дуться? Давайте подходите сюда (на большее Михаил сейчас способен не был).
Лизка сняла с головы белый платок и, уже не таясь, замахала Федьке: иди! Кончилась твоя отсидка. И ей любо, любо было заодно пробежаться своим глазом по голой пожне.
Хороша, красива пожня в цветущей траве. Как шаль нарядная. И хороша пожня, когда на ней лежит пахучая, медовая кошеница. Но всех краше и лучше пожня, когда она голая. Когда с нее только что сено сгребено.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Воротца на задворках были открыты, и Михаил на всем скаку влетел в заулок.
Бледная, растрепанная мать кинулась к нему от двора, когда он спрыгнул с пошатывающегося Лысана.
— Что с ней?
— Не знаю, не знаю… Второй день не пьет, не ест.
Степан Андреянович в ответ на его требовательный взгляд пожал плечами:
— Вымя… С вымем неладно.
Серое гудящее облако гнуса, увязавшегося за ним еще на Синельге, качалось над его потной головой. Мать веником стала разгонять гнус. А он сделал шаг к воротам двора и споткнулся: глухой, протяжный стон донесся оттуда.
Вымя у Звездони вздулось горой, затвердело, как камень. Сухой жар опалил пальцы Михаила.
Он с ненавистью метнул короткий взгляд в мать:
— Хозяйка! Холодной водой протирала?
— Да что ты… С чего…
— А я думаю, уж не палкой ли кто жарнул. Смотри, какой рубец на брюхе.
Михаил ощупал продолговатую опухоль, на которую указывал Степан Андреянович. Корова дернулась и охнула, как человек.
— Ну что, Звездонюшка? Что? Больно?
Он провел у нее за ухом — Звездоня любила, когда у нее чесали за ушами. Но на сей раз она не отозвалась на ласку. Из раскрытой пасти со свистом, с бульканьем вырывался горячий воздух.
Ветеринара дома не было — ветеринар был на сенокосе. Марина-стрелеха, больше всех в Пекашине понимавшая в скотине, как на грех, ушастала в Заозерье. Что делать?
Михаил, затравленно оглядываясь, тяжело дыша, вышел за ворота двора и увидал коня, до репицы забрызганного грязью, увидал тихое закатное небо за деревней.
Что делает сейчас Лизка с ребятами? Догадываются ли, какая беда стряслась дома?
Когда с час назад к ним на Синельгу приехал Лукашин и сказал, что у них заболела корова, и Лизка, и ребята завыли, как по покойнику. И он долго, нахлестывая коня, слышал сзади себя этот разноголосый надсадный вой, вечерним эхом разносимый по лесу.
Степан Андреянович тронул его за рукав. Он понял старика.
Корова уже запрокинула голову и дышала брюхом. Татьянка платком отгоняла мух от вымени. Мать подкладывала под голову какую-то лопатину.
Михаил встретился глазами со Степаном Андреяновичем. Тот покачал головой: не могу. Михаил вытащил нож из ножен.
— Мама! Мама! — заревела истошным голосом Татьянка.
— Да уведи ты ее к дьяволу! Не понимаешь? — вне себя заорал Михаил.
И то ли от этого крика, то ли поняла она все, умница, но Звездоня вдруг приподняла голову, и огромный заплаканный глаз уставился на него.
Что же ты это? За что? Разве я мало вам послужила? Была ли у вас радость за все эти годы, кроме меня? Как бы вы жили?
Михаил выждал, пока не опустилась голова Звездони, воткнул нож в горло.
— Почем мясо?
— Сорок.
— Почем? Почем?
— Сорок, говорю.
— Да ты, парень, выспался?
— А сколько же, по-твоему? Мы в налог за живой вес по сорок платим…
Женщина, побрякивая светлым ведерком, перешла к молочницам. Там, у молочниц, стояло двадцать-тридцать домохозяек, и все они за это утро перебывали у него. А мяса купили только трое, и то пустяки — по триста, пятьсот граммов.
Начинался день — жаркий, страдный день.
Михаил стоял за прилавком и с ненавистью поглядывал на домохозяек, сбившихся в пеструю кучу под навесом у ларьков с керосином.
Домохозяйки выжидали — это ему было ясно. Выжидали, когда он скинет цену. Нет, не дождетесь. Не будет по-вашему. Вся жизнь у него ушла в эту корову так что же вы хотите? Даром?
После войны у него была возможность вместе с Егоршей уйти на лесопункт. Не ушел. Остался в колхозе. А для чего? А для того, чтобы вот эти четыре копыта ходили по земле. (Он согнал рукой мух с посинелых суставов коровьих ног.) Все вам больше, копыта. Отходили свое.
Копыта были черные, щелястые. А он помнит, когда эти копыта были еще желтые, молочные, — величиной с овечье копытце, помнит, как отец на руках внес Звездоню в избу: «Хорошая будет корова!»
Да, хорошая. Поработала, потрудилась на них Звездоня — без молока не сидели. Но и они потрудились на нее. Степан Андреянович, он, мать — втроем молотили всю страду. Но разве прокормишь корову семью-восемью процентами? И вот посматриваешь по сторонам — нельзя ли где в заброшенном ручье прикосить возишко. Прикосил — ночей не спал, а потом это сенцо надо стаскать куда-нибудь под ель, припрятать, чтобы оценочная комиссия не наткнулась. А потом осенью, по первому снегу, его надо вывезти. Да ночью — чтобы никто не видел. В прошлом году, например, он часа три ждал за болотом, покуда народ от конюшни уйдет. Промерз так, что думал — околеет. И все-таки Ося-агент удозорил, гад. Пришлось бутылкой хайло затыкать…