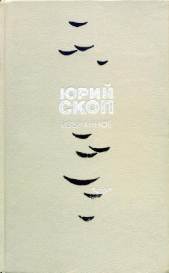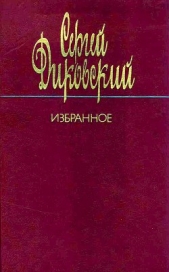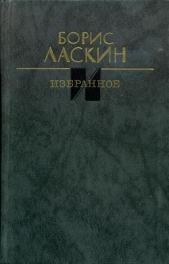Избранное
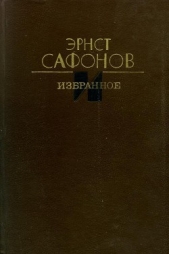
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бежал он, ругая себя и озаренный желанием встречи. Как у огрузшего коня, пущенного в галоп, что-то екало у него в боку, хотелось пить; он жмурил глаза, тряс головой, вспоминая, какие у нее руки, какое сено там, какой был зной и вообще все какое было… С ума сойти! Ах, Ижиков, что же все-таки делать будешь?!
Будка высветилась издали, горел действительно в окнах свет, отбрасывался в палисадник, освещая тонкие кривые стволы яблонь, выбеленные мелом. Одно окно было распахнуто — створками наружу; Ижиков с расстояния увидел в этом окне мужа ее — Бориса, так ведь? — одетого в знакомую форменную тужурку. Он сидел вполоборота к улице, хлебал из глубокой миски деревянной ложкой, задумчивый, лениво-расслабленный…
Ижиков подкрался совсем близко, затаился за высоким колодезным срубом. Усмотрел в окно край металлической кровати с горкой подушек, висели там портреты в простенках, железнодорожный плакат еще, и продолжал есть, обстоятельно, крепко, в удовольствие, хозяин… Вдруг совсем близко что-то негромко звякнуло, сердитым квохтаньем отозвались куры, женский голос сказал: «У-у, пустомолки!..» И понял, задыхаясь, Ижиков: это она! Разумеется, она — сарай запирает…
— Ой! Кто ж? — вскрикнула тонко, когда он резкой тенью возник перед ней.
— Я, — по-прежнему не справляясь с дыханием, трепетно доложился он. — Я это…
— Ты? Ух, напугал… — Она отняла руки от груди, вздохнула шумно, с облегченьем; сказала полушепотом: — Иди домой. Не поваживайся сюда, мальчик… Повадливый, ишь! Ступай!
— Нет…
— Чего нет… Муж, смотри, выйдет. Убьет.
— Что ж ты, — выдавил он из себя, услышав сам, какой у него рыдалистый голос, и все рыдало в нем. — Ладно, если так…
— Так, так… — согласилась она, позвенела связкой ключей; попросила, как приказала, — строго: — Не сболтни кому смотри!
— Что ж ты… — он повторил нелепо свое.
— А вот ты женисси, жену заимеешь — жене не изменяй. Ты ей изменишь, а после со зла она тебе. Назло, понял… Изменишь жене — про меня вспомни.
— Подлая ты, — сказал он.
— Ступай! — сердито и тихо прикрикнула она, подтолкнула его рукой в плечо. — Тошно и без тебя… Убирайся же, ч-черт!
Ижиков подумал: а вот ударю ее сейчас, хотя знал, что не ударит, и никогда не осмелится на женщину руку поднять, — но уж очень муторно было, и гнали-то от ворот как нищего, только что собак не науськивали… Он сунул руки в карманы брюк и пошел прямо, не разбирая во тьме дороги, по картофельным грядкам, путаясь в ботве, обрывая ее. Слышал, как скрипнула дверь будки, вышел на крыльцо муж Борис и сказала она мужу — громко, с досадой:
— Хорь вроде к курям подходил!
— Хорь? — заинтересованно переспросил муж. — А был же сегодня на станции, а про капкан, едрит-т твою, забыл, ну!
— А ты не забывай…
«…Не забывай, — повторил тогда про себя удалявшийся от будки Ижиков и подумал: — Иные стреляются, вешаются, с ума сходят… Бывало ж такое… А я выдержу!» И отчего-то после этого душа его повеселела, походка обрела твердость, он подмигнул оранжевым звездам и пожалел искренне, что зря не попросил у женщины краюху хлеба: вынесла б, не отказала. А теперь когда удастся позавтракать — утром лишь, в городе… А звать ее как?
…За вагонным окном нескончаемо продолжалась летняя Россия, пока еще не тронутая осенними ветрами и холодом дождей; дети и женщины провожали взглядами поезд… Ижиков думал, что все имеющее определение в этом мире и не имеющее принадлежит ему, остается с ним, пока он остается среди живых людей.
Из купе вышла жена, он подвинулся, уступая ей часть места у окна.
— Простор какой тут, — сказала она. — Ты видишь… смотри!.. церквушка.
— Да, — рассеянно ответил он, обнимая ее за плечи; машинально произнес вслух: — Десять наверняка…
— Что десять?
— Посчитал… Мостов десять — двенадцать успею еще построить, — сказал он.
1970
КРЫША НАД ГОЛОВОЙ ОТЦА
Россия начинается с избы…
Актер областного Театра юного зрителя Василий Тюкин получил заказное письмо от старшего брата Константина.
Было без четверти семь, они с женой опаздывали на вечернюю репетицию, но Василий в плаще и шляпе все же присел на тахту, стал рассматривать конверт, узнавая знакомые каракули брата, радуясь им.
— Свинство, — сказал он жене, нетерпеливо поглядывающей на него от двери. — Четвертый год работаю — домой никак не съезжу… Десять часов поездом!
— Опоздаем. Каллистрат опять наорет, — сказала жена.
— Черт с ним! Ей-богу ж, свинство — четвертый год…
— А ты поезжай. Отпуск будет — поезжай. А я с Бронькой к маме.
— Поезжай, как же! А в последний момент окажется: у сынули — рахит, у женули — бледный вид, поедем, Вася, на юг или на кумыс. Так, что ль?
— Кто ж виноват, что у твоего сынули рахит?
— Ты! — сказал Василий, подсознательно чувствуя, откуда его внезапное раздражение: в братниных каракулях, вкось и вкривь расползающихся строчках адреса чудился ему, Василию, укор; они, фиолетовые корявые буквы, действительно словно попрекали и требовали отчета.
— Каллистрат задаст нам, — напомнила жена.
— Ладно, идем, — отозвался Василий, а сам надорвал конверт, принялся за письмо.
Брат писал:
«Здравствуй, Василий Никитич!
Теперь ты Василий Никитич, потому что твой возраст почти тридцать лет, вполне подходящий имени и отчеству. Но как старший брат я пока не могу привыкнуть называть тебя двумя словами, а потому благодарю тебя, Вася, за красивую открытку с поздравлением 1 Мая, хотя мой срок с ответом задержался почти на полгода. Получилось так, что с 7 мая, как раз День радио по календарю был, я не работаю по прежней должности и ответа дать не мог. Дело не во времени, а в настроении. С 7 мая наш сепараторный пункт закрыт, и я занимаюсь кой-чем.
Хотя и была нудной работа моя, все же считал я себя в необходимой колее, привык, пробыв девять лет на одном месте, а теперь не знаю. Предколхоза отдал маслобойню заводу, но они мудрят, не хотят нести лишние затраты, хотя они вполне окупались за счет нашей качественной продукции. А теперь колхоз возит молоко на завод, переводят все во второй сорт или даже брак. И сломал я тут же ногу, вот уже четыре месяца по сложному рентгенскому снимку хожу на белютне, а ногу волочу. Как говорится, не загадаешь, Вася!
После твоего апрельского письма в райисполком к отцу в деревню приезжал инструктор с района. В колхозе остались недовольны, что ты сам поперед не обратился к ним, поскольку хотя и в другой удаленной области, не в нашем родном крае, но бывший нашенский, стал ты известный человек, и артистов, дескать, у нас любят и ценят. Мы бы, говорил Попов, оказали помощь вашему отцу, но зачем же тревожить район. С инструктором они были у отца, но отец, известно, больной старик, растерялся и забыл, кого как звать в семье. Правда, Попов сказал, что же ты не обратился к нам, и отец ответил, что просил всего полкубометра лесу, а вы отказали. То было когда, ответил на это Попов.
Дали отцу бумажку в сельпо, там был лес на избяной верх, и отец четыре раза ходил в контору безрезультатно. То председателя нет, то нет машины, и на пятый день нашли попутную, приехали в сельпо, а лесу нет давно. В общем, не помощь, а мытарства, на которые отец не способен в своем возрасте и при своем подорванном здоровье…»
— Ты иди… Догоню. Иди! — Он ощутил, как возникает в нем противненькая стылость, будто в предчувствии опасности или неприятного известия; пальцы, сжимающие листок письма, поддались внезапной дрожи. «Что же такое, — подумал он, — они там, а я забыл, сам по себе, стыдно ведь…» Жена отошла от порога, со вздохом присела из краешек тахты рядом, заглядывала через руки Василия, о чем пишет Константин.
«…Был у отца в прошлое воскресенье, — читал тревожно Василий, — дали ему из колхоза два куба на верх, лес, не совру, хороший. Сегодня суббота, я один дома, Дуня с Ниной уехали на свеклу. Я жду Севостьяна Севостьяныча с кинофикации. Хочу попутно отвезти на его машине отцу лес, который у меня остался. Планировал пустить этот лес на веранду. У меня его около кубометра. Ну и доски еще. Тоже отвезу. Тем более Шурка, зять, с Полиной на сегодня обещали подъехать, помогут раскрыть и разобрать хату. Попов в плотниках категорически отказал — заняты на зернохранилище и детяслях.
В общем, сам, Вася, понимаешь, не стройка, а горе. Да я к тому же из-за белютня ногой не управляю. Ну, конечно, поеду, буду, что в моих силах, помогать отцу. Он нас растил тоже без здоровья и в нужде. Я их сколько агитировал к себе жить, но что сделаешь — старики! Мне не хочется свою избу бросать, а им тем более.
Василий Никитич! Из нас никто не знает конкретно, в чем твоя работа артиста и какие у тебя права. Я прошу тебя, если будет возможность, приезжай подмогнуть отцу, хотя бы пробить кое-что, а то он, пока дойдет до конторы, забывает, зачем шел. Это, Вася, одна просьба, последняя, и тебе ее нужно уважить, чтобы не похоронить нам стариков в дырявом жилье, ибо будет нам стыдно на похоронах. На веселых встречах простительно, конечно, и в этой хате, но походит она на решето, стены покривились, до окон труха одна. Все наши и ближайшие сродственники с приветом…»