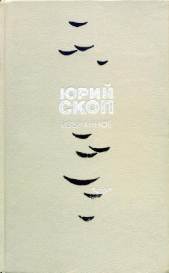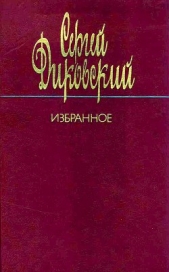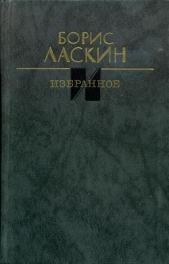Избранное
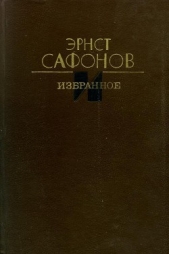
Избранное читать книгу онлайн
В книгу известного писателя Э. Сафонова вошли повести и рассказы, в которых автор как бы прослеживает жизнь целого поколения — детей войны. С первой автобиографической повести «В нашем доне фашист» в книге развертывается панорама непростых судеб «простых» людей — наших современников. Они действуют по совести, порою совершая ошибки, но в конечном счете убеждаясь в своей изначальной, дарованной им родной землей правоте, незыблемости высоких нравственных понятий, таких, как патриотизм, верность долгу, человеческой природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Травишь себя, вижу, Потапыч. Не надо. Завтра…
— …Молодые ребята, твоего, прикинуть, возраста. Комсомольцы. И я молодой, Глеба, был. Включи свет… Слушай меня, старика. Я на войне не сдался, а вот опосля сдвинулось что-то, устал я, отдохнуть захотел, поначалу понравилось даже… и пробежали мимо годочки! Катятся, Глеба, катятся — под бугорок, к сырой яме… Отдыхаю я, голова ленивая у меня, тело ленивое…
…Последний катер на сегодня — провожает его Глеб; островком света поплыл этот катер, и заигранный голос с пластинки доносил к берегам, стихшему лесу, уснувшей траве старую песню:
…— Зачем мне, Глеба, спать? Усну!.. А что говорю — терпи. Надо тебе слушать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— …Вот бойцы боевого охранения приводят этих двоих, докладывают: задержаны ввиду ихней подозрительности. Обличьем они, правда, были не совсем: тот, что постарше, чернявый и в очках, был в солдатской шинели без хлястика, стриженый, под шинелью вроде спецодежды что-то, и главное — револьвер при ём. А второй — уграстенький, помню, лицом, с изувеченной, без пальцев, рукой — тоже одетый вроде в комбинезон… «Кто такие? — спрашивает капитан Верховский. — Почему с оружием? Документы где? И вообще что за люди?» Серьезно спрашивает капитан Верховский: нервность в голосе, губы раскровенены — прикусывает их, оттого что в сон его клонит и третьи сутки немцы заснуть не дают. Тот, что в очках, отвечает: рады, дескать, что на вас вышли, а револьвер подобран нами для самообороны, так как опасались столкнуться с немцами. «Кто такие?..» Эх, Глеба…
— Слушаю я.
— …Мнется тот очкастый, Глеба, улыбнулся невесело, как сейчас вижу, и признался: из тюрьмы. В пересыльной тюрьме, рассказывает, они были, и с налету немцы разбомбили тюрьму, появились неожиданно, и кто успел, дескать, побежали куда глаза глядят, потому что никто о них уже не заботился, и шли они лесами двое суток, и пришли… «Статья? — спрашивает капитан Верховский. — Состав преступления?» Снял очки чернявый, протирает пальцами стекло: нажал, что ли, сильно — выпало одно стеклышко из оправы. Наклонился, ищет в траве и так, с наклонного положения, неохотно отвечает: «По пятьдесят восьмой…» — «Точнее!» Выпрямился тот, окончательно разъясняет… Помнится, называлась статья — пятьдесят восьмая семь восемь одиннадцать… А то и путаю…
— Чего ж замолчал. Дальше…
— «…Враги народа, значит», — сказал капитан Верховский, и нехорошим голосом это было сказано. «По недоразумению, товарищ капитан», — вставил свое другой, что в угрях, с культяпой рукой… Увел капитан их в палатку — для допросу… Закурить дай. Вот… Увел он, а тут, полчаса этому иль меньше, стрельба вблизи, крики: «Танки немецкие, танки!..» Выскочил капитан Верховский из палатки, отдает приказание занимать оборону, занимать в болоте, где танкам в случае чего не пройти, меня к себе подзывает: «Старшина, возьмите двух бойцов, уведите… этих. Живо!» Еще успел сказать: «Шли на сближение с врагом. Опасные, старшина, подлюги…» Взял я сержанта Мухина, ленинградский он был, узбека еще одного да караульного, что капитаном был приставлен к ним…
— Дальше. Ну ты, Потапыч!
— …Тот, что с изувеченной рукой, идти не мог, плакал, падал… В очках — он поддерживал. «Встань», — говорил. И еще говорил: «Зря вы, товарищи, невиновные мы… Я, — говорил, — с фашистами в Испании воевал…» Узбек хотел его прикладом стукнуть, да Мухин не дозволил. «Потерпи, — остановил, — хоть и Кирова они, гады, убили…» Кирова тогда Мухин вспомнил…
— Расстреляли?!
— Я лично не стрелял, Глеба.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Включи свет. Свет, Глеба…
В слабом свете малосильной электрической лампочки опухшее лицо Потапыча мертво, недвижно, по-сонному отрешенно; лишь толстые пальцы с желтыми раздавленными ногтями, окаймленными чернотой, тихо ползают по столу. Они двигают к замершему Глебу газету недавнего числа — газету, чем-то залитую, но уже с подсохшими буроватыми пятнами. Внизу страницы темный прямоугольник портрета: человек в очках, с мягкой и одновременно хитроватой улыбкой. Вокруг портрета, теснясь, вырываются строчки:
«МНОГО НАПЕЧАТАННЫХ РАБОТ — КНИГ, СТАТЕЙ, ОЧЕРКОВ, ФЕЛЬЕТОНОВ — ПРИНАДЛЕЖИТ ЕГО ПЕРУ… ПАРТИЯ НАПРАВЛЯЛА НА ОТВЕТСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА… СРАЖАЛСЯ В ИСПАНИИ В РЯДАХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ… В 1937 ГОДУ БЫЛ АРЕСТОВАН ПО КЛЕВЕТНИЧЕСКОМУ ОБВИНЕНИЮ… НАВСЕГДА В ПАМЯТИ НАРОДА…»
— Не он, может, Потапыч?!
— Он… как получил газету… он.
Читает Глеб:
«…МНОГО НАПРАВЛЯЛА… В ИСПАНИИ… В 1937 ГОДУ АРЕСТОВАН… В ПАМЯТИ…»
— Глеба, смотри, палец распух у меня. Ноготь врос в мясо, Глеба, смотри… Болит, а я думаю, а это ноготь… Ты в меня смотришь, — нет, нет, палец вот…
С грохотом падает в тишину опрокинутая пустая бутылка.
ГОЛОСА
Глеб бредет вдоль берега. Чуткая ночь, богатая звездами, с едва уловимой прохладой, и река — еле различимая, как небо, а приглядеться — небо лежит на ней, замочило свои звезды… Какая долгая эта ночь!
Хоть далеко ушел от них, шарят по нему, хватают за локоть, за рубашку — потные и слабые руки Потапыча. Там, в комнате, они искали в нем опору, поддержку, а он, высвобождаясь, бормотал: «Спать ложись… Напился — спи!.. Кому сказано: спи!..» И впервые почувствовал он брезгливость, брезгливую жалость — ко всему, что было сейчас в Потапыче, к неряшливому телу его и к путаным словам его. Почувствовал, а в самом себе густел, обволакивал все, расползался испуг: родной же ведь он, старик, по крови родной, единственный…
Он иногда приходил перед сном, садился на койку у Глеба в ногах, проминал пальцем свой пухнущий живот, щурился и будто ждал, что вот сейчас Глеб скажет ему что-то такое — важное, настоящее, необходимое для них обоих… А Глеб тяготился неумением с к а з а т ь, курил, и старик со вздохом шел к себе. А однажды он сам сказал Глебу:
— Я ночью себя проверяю.
Глеб удивился:
— Как?
— Слушаю себя, сколько во мне жизни осталось.
— Ты здоровый еще, молодец ты.
— Думаешь? Я же не тело слушаю, а это… ну дух, что ли… Дух!
— Как же ты его… слышишь? В Бога вроде не веришь, и — дух!
— При чем Бог, при чем! — рассердился тогда Потапыч. — Дух — это смысл, наша полезность в жизни, доброта. Если это еще есть, жить можно, значит.
До Глеба вдруг доносятся голоса, невнятные, неразличимые, но их много, — у дебаркадера они, и там луч карманного фонарика бьет в небо, как прожектор. Что еще такое? Что за люди, откуда они ночью? Татьянка, где она? Ну-ка — бегом! Бегом… И не то мягкая, с травянистым покровом ночная земля странно звенела при беге, не то прямые струны его нервов натягивались до предела — со звоном.
А добежал — снаружи никого, втянулись внутрь, видны колыхающиеся тени в окнах зала ожидания. Рванулся по трапу на палубу и застыл в проеме распахнутой двери.
Он не сразу разглядел, кто из мужиков здесь, — милицейскую фуражку увидел, качание темных и светлых голов, какую-то тетрадь, в которую записывали; и увидел, что на скамье в грязных сапогах лежит Спартак Феклушкин, — бобровский лысый фельдшер Ситников копался руками у него на груди, и руки фельдшера — красные от крови, а лицо Спартака — белое, с закрытыми глазами. На коленях, склонившись к Спартаку, стояла Люда, и через плечо у нее на узеньком ремешке висел транзистор, — в нем шуршало и потрескивало. Она заметила его, хотя не отрывала взгляда от Спартака и ужасных рук Ситникова, — заметила, потому что по-чужому и, показалось ему, с ненавистью сказала:
— Он звал тебя. Почему не приехал?
«И опять сегодня, — подумал он, — в один день. Все сразу!»