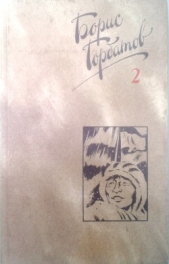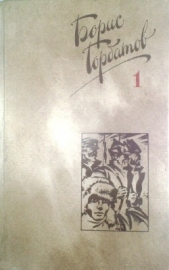Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.

Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. читать книгу онлайн
В завершающий Собрание сочинений Н. Погодина том вошли его публицистические произведения по вопросам литературы и драматургии, написанные преимущественно в последнее десятилетие жизни писателя, а также роман «Янтарное ожерелье» о молодых людях, наших современниках.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отчаяние, охватившее Володьку, с такой силой отразилось на его лице, что Иван Егорович невольно потянулся к нему и дотронулся до его руки.
— Ты не страдай. В жизни всякое бывает. Тебе жить да жить. А то и пострадай. Умнее станешь. «Около смерти был». Это ты хорошо сказал. Каждым днем жизни дорожить надо. И не днем даже, а каждым часом. Не живите вы как попало, спустя рукава.
Иван Егорович ласково похлопал Володьку по спине.
— Так–то, брат… Кажется, все обсудили.
Володьке не хотелось уходить. Мир за пределами этой комнаты казался ему серой пустыней, которая окружала его в ту ночь, когда он шел от Светланы. Краешком сознания он еще надеялся, что Ирочка вернется. Тогда произойдет чудо. Он завоюет ее навсегда.
Но все–таки надо было уходить.
— А где она? — спросил Володька, поднимаясь. — Конечно, если не секрет.
— Секрет, секрет, — ответил Иван Егорович и на мгновение задумался. Каждый мускул сильного тела Володьки напрягся в тревожном ожидании.
— Не хотел тебе говорить. Она не велела. Но жаль мне тебя, парень. Думаю все–таки, что в тебе не ошибся. Уехала она. Подписалась на три годика. Далеко, отсюда не видно. Сибирь–матушка. Вот так.
Володька слушал и не понимал.
— Ты ее малость знаешь. Она ведь с идеями. К тебе песок ворочать пошла тоже неспроста.
Только теперь Володька понял, что Ирочка уехала.
— Адреса не оставила? — прошептал он.
Иван Егорович прошел в угол, где стоял их большой дряхлый шкаф, вмещавший множество самых разнообразных вещей — от костюмов и платьев до пожелтевших писем. Выдвинув нижний ящик шкафа, он достал оттуда какой–то футляр. Когда он открыл его, из футляра выпало что–то и соскользнуло на пол. Это было янтарное ожерелье.
— Не велела она тебе говорить, — обратился Иван Егорович к Володьке, держа в руках бумажку, на которой, видимо, был записан адрес Ирочки. — Да кто знает! Может, и к лучшему.
Володька кинулся поднимать знакомое ожерелье.
— Дорожит подарком, — сказал Иван Егорович, — а забыла. Сколько раз говорила мне, что тот день, когда я подарил ей ожерелье, был самым счастливым в ее жизни. А вот взять с собой забыла…
— Дайте мне эти монисты, — попросил Володька, неожиданно употребляя привезенное с Дона родное украинское слово.
— Тебе? — улыбнулся Иван Егорович.
— Отвезу Ирочке. Отдам.
По–прежнему лихое лицо Володьки сияло радостным, чистым, юным воодушевлением. С удивлением взглянув на него, Иван Егорович поверил, что он действительно отвезет и отдаст.
1959
СТАТЬИ,
РЕЦЕНЗИИ,
ЗАМЕТКИ
О ЛИТЕРАТУРЕ
И ТЕАТРЕ
Владимир Иванович
Нам представляется дело более или менее завершенным, и мы сдаем спектакль Немировичу — Данченко.
…«Старику», — так говорят в театре старые и молодые артисты, говорят с неуловимыми интонациями, придающими единственный, мхатовский смысл слову «старик».
Вообще только очень самонадеянные или скороспелые люди театра могут сказать о каком–нибудь спектакле, что он «готов». Отлично зная каждого исполнителя, можно приблизительно и крайне осторожно представить себе, как пойдет спектакль на публике. Но наступает момент, когда постановщик видит, что больше ничего сделать нельзя, репетиции топчутся на месте, актерам делается необходим зритель, и тогда надо спектакль выпускать. Приблизительно в таком положении генеральная репетиция, которую будет смотреть «старик».
Он садится в четвертом или пятом ряду. В зале почти вся труппа — роковые, ужасающие, безапелляционные зрители, но страшнее всех их — и я прямо говорю: да, это страх — Владимир Иванович. Всегда неизменно свежий, подобранный, безукоризненно, аристократически одетый, он расположен благотворно. Это меня изумляет и покоряет. Я на своем веку редко встречал таких людей. Их нельзя забыть. Они непостижимо излучают такое удовольствие, великолепие и спокойствие, что рядом с ними просто нельзя о чем–нибудь горевать.
— Начнем? — говорит он вполоборота к режиссерскому столу.
В какой раз в этом зале он принимает спектакль! Драматург, режиссер и необыкновенный актер, о чем почти ничего не написано, актер, умеющий показать, как надо играть по чувству и мысли влюбленную девушку и старика, мальчика и героя, Гамлета и Ленина. Какое сонмище сценических образов пронес через себя этот человек, предлагающий сейчас начать еще один новый спектакль!
— Начнем!
В Художественном театре можно было, проходя по коридору, безошибочно определить, кто репетирует в фойе — Владимир Иванович или кто–то другой, такая бывала особенная тишина и особенная на его репетициях манера. Можно себе представить скрываемое или явное волнение каждого исполнителя на генеральной.
Авторитет, по смыслу слова, означает собственность мнения, принадлежащего мне самому. Авторитетные люди поражают неожиданностями. Авторитетные приговоры удивляют своими доводами. На подобных генеральных репетициях здесь меркли и расцветали актерские судьбы, ибо судьями были мировые авторитеты великого русского сценического реализма.
По должности автора мне надо быть вблизи. По сути дела, на генеральной автор никому уже не нужен, иначе какая же это генеральная! Но нас так часто в подобных случаях мучают всяческими «зачем» и «почему», что надо было ждать вопросов.
Ни одного. Мы ничего не понимаем. Потом мне становится известной формула, которой всегда руководствовался Немирович — Данченко. На первой же репетиции, последовавшей после генеральной, он сказал исполнителям:
— Если мы приняли эту пьесу в наш театр, то значит эта пьеса хорошая и мы должны разыграть ее во всей полноте наших артистических дарований.
Конец.
Как видите, замечательно просто, и припомните, какая бездна словесности бумажной и устной потрачена на эту проблему об авторе и театре. Он удивительно смотрит спектакль, вы ни за что не узнаете — когда он зритель, когда он мастер, метр… или, как говорят американцы, босс — хозяин. Смеется и что–то поощряет себе на уме, лукаво в бороду, но ничего особенно не выдает, помалкивает и слушает текст так, будто знает его наизусть и ловит оговорки. Конечно, у него есть свои слабости к людям, кого–то он любит и принимает целиком, кого–то он отрицает, но то и другое не мешает ему оставаться на высоте художественной объективности, оттого любимые и нелюбимые беспрекословно, безраздельно признают его авторитет.
Может быть, он не смотрит спектакль, а работает над ним?
Вдруг также вполоборота он говорит нам:
— Вот не могу поймать…
«Поймать»… Это слово он очень часто повторяет на репетициях.
— Да, да, — говорит он, — я еще не поймал, но, кажется, я найду это.
Что это? На лету, если хотите, эксцентрично, но ценой громадного опыта в искусстве, прикладывая к сцене музыкальные композиции, живопись, архитектуру и наглядную повседневную жизнь людей, он, оказывается, беспрестанно что–то ловит и позволяет себе сделать решение, когда знает точно, что поймал.
Таким образом, третья картина «Кремлевских курантов» стала первой, четвертая — второй и первая — третьей. Все перепуталось. Год репетиции — и такая новость. Невозможно представить себе, что из этого получится. Владимир Иванович деликатно, осторожно советуется с нами, но видно — спорить бесполезно, он «поймал», что–то решил и теперь от своего не отступится.
И вот наконец после спектакля он делает сценическое решение пьесы. Батюшки мои!.. Вот уж где воистину словам тесно и мыслям просторно. Две или три минуты длилось его выступление, но оно давало другой и новый ход вещам. Спектакль надо начинать увертюрой на площади у Иверской с тем, чтобы зритель в первые же минуты увидел и узнал эпоху… Не буду подробно останавливаться на трактовке пьесы, это вопрос узкий. Интересно другое: манера работать. О эти режиссерские экспликации! Самые ужасные режиссеры — это режиссеры словоохотливые.
Один постановщик, трактуя одну пьесу, вдохновенно ораторствовал: