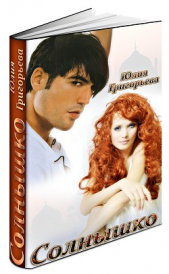Солнышко в березах
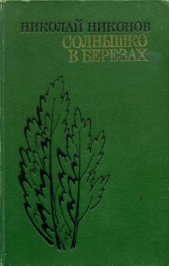
Солнышко в березах читать книгу онлайн
Повести уральского писателя Николая Никонова («Солнышко в березах», «Глагол несовершенного вида») автобиографичны. Неторопливая манера повествования придает произведениям писателя характер особой задушевности, правдивости. Наряду с изображением человеческих отношений, судеб, автора интересуют проблемы отношения к богатствам земли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Даже небо несколько дней не казалось мне тем прекрасным небом, в которое я всегда любил смотреть, — словно спрятано, затаило бесконечную угрозу.
Девятого упала вторая бомба. На Нагасаки. Но о тех, кто умер там, сгорел, обратился в пар, как-то уже не думалось. Потому что в тот день на восточной границе загрохотала война. Война эта с первых дней была точно такая, как пели когда-то перед сорок первым в песнях по радио, — стремительная, сокрушительная, поражающая невероятными цифрами пленных.
Сотнями тысяч сдавались японцы, танковые армии рвались через Хинган, на Курилах и Сахалине высаживались десанты, а здесь, мимо нас, все текла военная пушечно-танковая река.
Как-то под вечер мать послала меня накопать молодой картошки на огород — тогда у всех были огороды по тощим суглинкам и пустырям за товарной станцией. Никаких переходов-мостов там не было, и каждый раз приходилось пробираться, подлезая под десятки составов, пока весь красный, окапанный мазутом, с грязными руками, локтями и коленями не вылезал на противоположной стороне путей и валился отдохнуть в пыльные лопухи мать-и-мачехи на забурьяненном шлаковом откосе. На этот раз последний состав оказался с охраной. Солдаты в синих фуражках и собака. Овчарка кинулась без лая, с тихим хрипом. Я нырнул под вагон, зацепился, порвал рубаху, расшиб колени и свалился под откос, а собака придавила жесткими лапами, урчала, готовая хватать и рвать. Солдаты ее отозвали с хохотом, я чуть не ревел, рубаха порвана, колени в крови, штаны в мазуте, а главное — зачем, за что? Всегда думал — солдаты добрые. Еще в детском садике к нам на Октябрьский праздник приходили солдаты. Я сидел у одного на коленях, трогал ремень, звездочку на фуражке, от солдата хорошо пахло, как от отца, и я доверчиво прислонился к нему, почти так же, как к отцу. И вообще всегда было у меня ко всякой серой шинели уважительное доверие. А эти… Накопал картошки, залепил колени подорожником, лопату не зарыл, взял с собой, хромая побрел обратно. Решил: еще наскочит собака — зарублю, а там будь что будет, пусть хоть стреляют… Когда подошел — эшелона не было.
Наверное, за всю прошлую жизнь я не узнал столько хорошего и дурного, не пережил так много радостей и огорчений, не научился так раздумывать, прикидывать, рассматривать и определять людей, как в то теплое, дождливо-пасмурное лето, когда с молодого глупого ума бросался из одной аферы в другую. Торгуя на базаре, шляясь семечковыми проплеванными улицами возле — все в детской надежде найти оброненные кем-то деньги, — я в то же время остро вглядывался, все запоминал, словно бы отпечатывалось где-то во мне, оставалось едко и надолго. Эта привычка иногда и сейчас заставляет конфузиться — зайдешь в магазин, глянешь на какого-нибудь примечательного дядю, тетку, просто на понравившуюся женщину — смотришь: они уж ощупывают карманы, сумочку проверяют…
На рынке я привык смотреть. Вот, например, плотный, ладный, вертячий парень, волосы желтые, глаза пусто-сизые — «стригут». Пощелкивает красными ловко сшитыми сапогами, вертит ими так-сяк, болтает, крутится.
— Почем сапоги?
— Да совсем даром, — сыплет скороговоркой. — Дешевле денег. Тебе так отдам…
— А размер-то? — молодая из деревни в цветочном полушалке боязливо-улыбчиво смотрит.
— Дда точно на тебя, козявка…
— Померю… — решается молодая, начинает стыдливо подправлять, подтягивать чулки…
— Берри — меряй. Эх, кррасные сапоги — носят только дураки…
Это, конечно, жулик, и сапоги где-нибудь спер. Недаром так кругом зыркает. Он не из нашего города — выговор не тот. Да ворованное у себя и не толкают. Засыплешься. Похож на одного парня — вместе учились в пятом, только того скоро выгнали. Коробков его звали, такой же был, верткий, бойкий и злой. Задень такого — ножом пырнет, не охнет.
Вот ходит бледный мужчина, в галошах «прощай молодость», в зеленой велюровой шляпе и в пальто. Шляпа поотгорела, лента в пятнах, длинное пальто — тоже. Сам он весь такой же вымоченный, былой и нездоров — видно по мешкам под глазами. В лице, однако, что-то проглядывает полублагородное, не то театральное, может быть, из актеров, из статистов, из дамских парикмахеров. Продает старую детскую шубку. Шубка черная, из барана, вытерта плешинами, завитки раскрутились, но мужчина предлагает ее всем, стоит в том же ряду, где смуглые, страшно ворочающие белками цыгане, а может, какие-то кавказцы, продают блестящие каракулевые шкурки, сизые мерлушки.
— Вот… — возьмите, — пристает мужчина. — Этто ведь… каракуль. Шапка и воротник… Шапка и воротник… Сразу…
Покупатели с недоверием косятся, хмыкают, обходят. Ищи дурака!
Щеки мужчины обижены, глаза щурятся, рот — криво. Хочется ему продать эту ветошь. Может, сам еще носил или его дети. Опять подходит:
— Вот… Каракуль. На шапку и на воротник…
Обходят, обходят его. Восточные человеки с презрением цыкают, трясут мерлушками. А он, потоптавшись, безнадежно говорит, отходя:
— Да… Это ведь… Каракуль… Кто понимает… Шубка… Из тысячи шкурок… Одна была… Выбрана… Теперь таких…
И мне его жаль. Были бы у меня деньги, дал бы ему, сказал: «Иди вместе со своим «каракулем», ничего ты не продашь, не тебе тут место, только позоришься, себя, наверное, проклинаешь…»
Краснорожая баба со змеиными остановившимися глазами щупает у жалкой высохшей женщины в висящей жакетке и юбке хорошую скатерть с кистями. Скатерть старинная. Видно по женщине — еще из приданого, видно — жалко было нести. А баба щупает, как свое, ясно возьмет, а еще торгуется. Женщина вяло соглашается, и не о том даже она думает, вся она в прошлом, и что-то ей тяжело-тяжело очень: может, муж, убит, или сын, или оба, может, сидели когда-то за этой скатертью все вместе, счастливые… Баба лезет под подол за деньгами, показывает толстую сливочную ляжку. Не все в войну бедовали, которые и наживались — во как! У хлеба, у продуктов… Поднажился кое-кто и в деревне, куда брели с котомочками от поездов старухи, и женщины, и подростки менять на картошку нужное и последнее.
Инвалид, зажав под мышку костыль, трясет голубые женские панталоны, похабно смотрит на девок, на женщин.
— Трехетажный трикотаж! Ну, кому? Подходи — меряй! Кому надеть? Кому надеть! Ну, кому на толстую…
И ему улыбаются. Мужик, а чем торгует! Не стесняется… Бабы подходят, прикидывают, ухмыляясь. Жить-то надо всем…
Особенно притягивали меня ловкачи-игроки, грязные загорелые люди, с хитрыми морщинками, коротко остриженные и с короткими взглядами. Располагались они всегда в толкучке возле уборных, под заборами на подходах к рынку и в вокзальных закоулках. Клали на ящик расчерченную квадратами картонку, кидали мусоленый кубик, приглашали желающих ставить на число. Выигрыш зависел от ловкости рук деляги, от расположения Фортуны. Организатор, однако, никогда не оставался в проигрыше: определенные проценты брал себе. У ящиков толпились. Однажды и я не выдержал искушения — поставил пятерку на четвертый квадрат, выиграл пятнадцать рублей и сахарную карточку. На усиленные предложения ставить еще — не отозвался. Ушел счастливый.
Самые оголтелые ловкачи кидали три карты. Игра — проще некуда. Игрок сидел прямо на земле, клал карты, открывал одну, скажем, даму, потом ловко перебрасывал эти три карты, менял местами. Приглашал ставить деньги. Если ты угадывал даму, деляга платил поставленную сумму, если нет — ты лишался своей ставки.
Обычно в толпе теснились его дружки-приятели, «подначивали», ставили, выигрывали, огребали деньги под хриплые возгласы мечущего карты: «А нну, налетай! А ввот она, вот она, родная! А кто следующий? А ррупь поставишь — дыва возьмешь, а… поставишь… возьмешь. Нну, ннавались. Нну — навались! А ххимия — мумия, китайская винкельмуния!»
Особенно поражала эта «винкельмуния!»
Начавшему клевать деляга давал для запала раз-два выиграть. Но в конце концов азартный игрок обязательно уходил с пустыми карманами. Удивляло бесстыдство, с каким велась игра. Если деляга замечал, что игрок пригляделся к его приемам, он резко взвинчивал ставку, как бы в азарте, кричал: «А, ссам ставлю!» Шлепал деньги, перекидывал карты. Игрок, дрожа, замечал: «Точно, эта! Точно! Открывай!» Ловкач, не отрывая руки от карты, запальчиво кричал: «Ответ есть?» Если «ответа» не было, карта не переворачивалась, но чаще всего игрок торопливо кивал, лез за пазуху или в лифчик за «ответом» — деляга тотчас неуловимо перебрасывал карту, и разочарованный игрок с удивлением таращился на какую-нибудь шестерку вместо желанной дамы. Зрители пробовали шуметь, но ловкач не смущался — вокруг были его приятели, они же предупреждали о приближении милиции, которой все эти люди боялись куда меньше, чем я. Иногда они сматывались, а иногда деляга лишь убирал карты, не поднимаясь с земли, благодушнейшим образом улыбался человеку в синей шинели ласковой тюремной улыбкой.