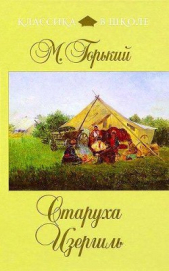Я люблю

Я люблю читать книгу онлайн
Авдеенко Александр Остапович родился 21 августа 1908 года в донецком городе Макеевке, в большой рабочей семье. Когда мальчику было десять лет, семья осталась без отца-кормильца, без крова. С одиннадцати лет беспризорничал. Жил в детдоме.
Сознательную трудовую деятельность начал там, где четверть века проработал отец — на Макеевском металлургическом заводе. Был и шахтером.
В годы первой пятилетки работал в Магнитогорске на горячих путях доменного цеха машинистом паровоза. Там же, в Магнитогорске, в начале тридцатых годов написал роман «Я люблю», получивший широкую известность и высоко оцененный А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
В последующие годы написаны и опубликованы романы и повести: «Судьба», «Большая семья», «Дневник моего друга», «Труд», «Над Тиссой», «Горная весна», пьесы, киносценарии, много рассказов и очерков.
В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, награжден орденами и медалями.
В настоящее время А. Авдеенко заканчивает работу над новой приключенческой повестью «Дунайские ночи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Давнейший?.. Здорово! В этом, брат, вся твоя суть. Да!
Какая суть? Неужели я проговорился?..
Неожиданно веселые морщинки разом исчезают с лица загадочного человека. Глаза сердито, пытливо светятся под лохматыми дремучими бровями. Губы шевелятся строго, каменно:
— Ну, раз ты давнешний, значит, не знаешь всех сегодняшних свежих новостей. Не знаешь, да?
Молчу, выжидаю. Ох, и хитрюга же он, мой следователь! Широкие петли разбрасывает вокруг. Одну за другой, хочет захлестнуть. Дудки, не выйдет!
— Знаешь ты, парень, что на нашей земле уже не давнешние порядки?
Молчу.
— Слыхал ты, что мы всем ворюгам-банкирам, капиталистам-заводчикам, помещикам, дворянам и князьям дали по шее и вытолкали под зад коленкой?
Молчу.
— Знаешь, парень, что красные победили на всех фронтах? Понимаешь, что это значит?.. Смерть давнешнему и жизнь новому, свежему! Смерть всем ворам, большим и малым, ворам по наследству, по призванию и безоговорочная амнистия ворам поневоле…
Человек встает, поправляет на мне одеяло, проводит ладонью по моей стриженой голове.
— Как звать тебя?
Раньше я бы соврал, — так, на всякий случай, — назвался бы Ванькой или Мишкой. Сейчас отвечаю не задумываясь:
— Санька.
— Санька, Саша, Александр! — человек сияет еще ярче, глазам моим больно смотреть на него. — Знаешь, что в имени твоем? Победа! Александр — по-гречески Победитель!
Чувствую, как горячая краска смущения и стыда заливает мне щеки. Хорош победитель!.. Кого я побеждал? Ахметку. Вор вора победил.
— Значит, Санька!.. Так тебе и быть Санькой. Так и обнародуем. Постой, а фамилия? Ну, говори!
Молчу.
— Не помнишь свою фамилию? Неужели забыл? Как тебя в школе величали?
— Я в школе не учился.
— Вот как!.. Ты, брат, извини, нечаянно спросил, по привычке. Я учитель.
Я тороплюсь сказать:
— Голота моя фамилия.
— Голота?.. Значит, хохол, потомок славных запорожцев. Голота!
Отвык я от своего имени. А от фамилии и подавно. В бухарской тюрьме меня звали Обрезом. Еще раньше Святым. Потом, когда мы с Ахметкой колесили по стране, меня величали то Домовым, то Жалом, то Хайлом. Никто даже не знал, что у меня есть имя — Санька и фамилия — Голота. Я и сам, по правде говоря, стал забывать их. Думал, что так на всю жизнь и останусь Хайлом.
— А меня, Саня, зови Антоном Федоровичем или, как все, Антонычем. Вот и познакомились! Ну, лежи отдыхай, набирайся сил и скорее на ноги становись. Вся коммуна заждалась тебя.
Коммуна?.. Заждалась?.. Неправда! Если и ждет, то не меня, кого-то другого. А меня… Есть на земле места, где всегда днем и ночью, примут таких, как я, — тюрьма, кичман, сарай для тифозных больных, барак для умирающих от голода, воровская малина, могильная яма…
Нет, что-то тут не ладно. Я ослышался, наверное… Но Антоныч говорит:
— Сегодня же на поднятии флага объявим всей коммуне, что ты пошел на поправку.
Коммуна?.. Так вот куда я попал! Да разве мне здесь место? Коммуна — это где Ленин, революционеры, где люди говорят только правду, ненавидят брехунов.
Коммуна!.. Мне вдруг становится страшно. Понимаю, что Антоныч, выкупанный в солнце, просторная комната, занавески, солнце, снег, небо — ошиблись. Они не знают, кто я. Чистота и свежесть не для меня приготовлены. Ошибка, ошибка!
И я кричу Антонычу прямо в лицо:
— Я жулик… вор… блатной!
Странное дело! Антоныч не испугался. Не отшатнулся от меня. Стоит рядом, у моего изголовья, с такими же добрыми глазами, и его тонкие сердитые губы морщатся в улыбке. Кивает головой.
— Знаем, все знаем! Ты не один такой под нашей коммунарской крышей. Всякий народ здесь собрался. Домушники, скокари, фармазонщики, форточники, банщики, даже пара медвежатников — и все, все, как один, бывшие. Бывшие!.. — смачно, будто съел что-то очень вкусное, повторяет Антоныч и улыбается во весь рот. — Теперь они — плотники, слесари, огородники, токари, механики, лесорубы. А в будущем… — Антоныч умолк, отвернулся к окну, к снежным сугробам, к черному лесу, к солнцу, щурится, будто разглядывает что-то далекое-далекое, — в будущем они — инженеры, педагоги, библиотекари, писатели, музыканты…
Помолчал, глядя на меня.
— Это они притащили тебя в коммуну и выходили. Ну, так договорились? Прощайся, Саня, побыстрее с постелью. Оденем тебя в козий мех, нацепим на ноги лыжи и отправим с коммунарами край наш осматривать, принимать хозяйство. Знаешь, какой тут лес, какая тайга!..
Близко-близко вижу обожженные ветром скулы Антоныча. На левой в шелковую кожу впился тонкохвостый головастый червячок. Тяну руку, хочу стащить, но он залез глубоко под кожу — не дается моим ногтям, Антоныч смеется:
— Что, не поймал! Это, когда на заводе Гужона в Москве работал… Горячая стружка ранила. Пятнадцать лет не линяет.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Все было бы хорошо, если бы не рябой Петька.
Едва я поднялся на ноги, едва встал в строй, он начал долбить меня, допекать:
— Ну и как? — спрашивает с ухмылкой.
— Что как?
— Долго у нас будешь гастролировать?
Голос у Петьки тоненький, писклявый. Недоверчивые насмешливые глазки бегают. Скуластая морда, густо крапленная оспой, лоснится.
Молчу. А Петька и не нуждается в моем ответе. Цедит сквозь зубы презрительно:
— Хватанешь что-нибудь подороже — только тебя и видели!
Эх, с какой бы радостью саданул я его в морду!
Терплю. А Петька не понимает этого. Сдирает с меня шкуру, скребет рашпилем, солит:
— Слушай, ты, скажи начистоту, высмотрел уже что-нибудь и драпануть думаешь?
Я сжимаю кулак, размахиваюсь, целюсь Петьке в переносицу, бью. Он вопит, а я не перестаю гвоздить его. Прибегают ребята, оттаскивают меня от рябого. И тут появляется Антоныч. Коммунары докладывают ему о происшествии.
— Ну и ну!.. Не ожидал, Саня, такого, скажу по правде! Думал, что надоело тебе ежачиться на людей, на самого себя… Что же с тобой случилось?
Хочу все рассказать Антонычу, как Петька обижает меня, как я долго терпел… Хочу и не могу. Не подберу слов. Язык очугунел.
— Молчишь?.. Что ж, допрашивать не буду. Не в наших это правилах. Ответишь как-нибудь потом… когда тверже будешь стоять на ногах. Ну, а теперь иди. Работай! Пора! Ребята, покажите Саньке его рабочее место.
Антоныч провожает меня до двери, говорит:
— Иди и помни, Санька. Мы не обещаем тебе ни молочных рек, ни кисельных берегов. Всего добивайся сам, ты кузнец своего счастья. — Антоныч широко улыбается. — Твои руки, наш молот, наковальня и горячее железо. А железа у нас сколько хочешь. Куй, брат, пока оно горячо.
Механический цех большой, а скрыться от рябого некуда. Станок его оказался рядом с моим. Дерет Петька с металла стружку, ухмыляется и тихо, чтоб не слышали ближние соседи, зудит, сдирает стружку и с моего сердца:
— Зря с тобой Антоныч валандается. Драпанешь все равно. Насквозь тебя вижу. Не выйдет из тебя коммунара. Не та заготовка, не та!.. С червоточиной болванка, ржавая.
И так каждый день. Проходу не дает, обливает грязью слов. А когда молчит, так глазами обижает, ухмылкой.
Еще поколочу зануду. Или в самом деле драпануть отсюда? Но если драпану, значит Петька окажется прав…
Я тоскую. Надоел этот проклятый Петька, этот беломраморный дом со львами на вершине каменной лестницы, перед высокой ореховой дверью. Порядок гнетет меня. Утром, когда на елях еще хлопьями висит ночь, меня будит медная труба. Не успею зевнуть, глаза продрать, осмотреться, соседи по койке уже на ногах: постель проветрили, заправили и с полотенцем через плечо, со смехом и криками бегут в умывальню. Я еще только помыться успею, а все уже кончили утреннюю зарядку, поднимаются в столовую. Раньше и я не отставал, в новинку было, все делал с охотой, но пошли каждый день подъем, гимнастика, завтраки, мастерские, вечера, да все точно, аккуратно и так скучно, и нудно, нудно до слез просто.