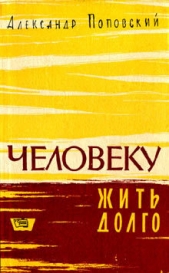Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов

Повесть о несодеянном преступлении. Повесть о жизни и смерти. Профессор Студенцов читать книгу онлайн
Александр Поповский — один из старейших наших писателей.
Читатель знает его и как романиста, и как автора научно–художественного жанра.
Настоящий сборник знакомит нас лишь с одной из сторон творчества литератора — с его повестями о науке.
Тема каждой из этих трех повестей актуальна, вряд ли кого она может оставить равнодушным.
В «Повести о несодеянном преступлении» рассказывается о новейших открытиях терапии.
«Повесть о жизни и смерти» посвящена борьбе ученых за продление человеческой жизни.
В «Профессоре Студенцове» автор затрагивает проблемы лечения рака.
Три повести о медицине… Писателя волнуют прежде всего люди — их характеры и судьбы. Александр Поповский не умеет оставаться беспристрастным наблюдателем, и все эти повести построены на острых конфликтах.
В сборнике ведется серьезный разговор о жизни, о нашей позиции в ней, о нашем мироощущении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антон не забывал нас и время от времени давал о себе знать. То привет перешлет с друзьями, в праздничные дни поздравит нас по телефону или вовсе задарит фруктами. Его письма, написанные каллиграфическим почерком на линованной бумаге, ничего интересного не содержали. Об опытах и исследованиях говорилось вскользь, больше внимания уделялось научному руководителю — моему другу патофизиологу и хирургу Воробьеву. Много рассказывалось о его характере и привычках, об искусстве работать в любых условиях, о его доброте и снисходительности к молодым помощникам. В этом отношении, писал Антон, он удивительно напоминает меня.
В одном из писем я нашел фотографию стенной газеты с обширной статьей, подписанной Антоном и Воробьевым. В ней сообщалось об оживлении обезьян спустя десять — пятнадцать минут после клинической смерти. Авторы статьи ссылались на мои работы и указывали, что один из них — Антон Семенович Лукин — усовершенствовал приемы, которые мною применялись на фронте. Свое отношение к автору письма Надежда Васильевна определила одним словом — «сорняк». Я счел своим долгом указать на двусмысленность этого понятия. И рожь, и целебные травы считались сорняками прежде, чем мы ближе узнали их.
— Вы, конечно, промолчите? — спросила она, сердито постукивая пальцем по лежащему на столе письму. — Не писать же опровержение в стенную газету.
Чтобы рассеять ее сомнения, я сказал:
— Я не стал бы оспаривать свои научные заслуги и в столичной газете. Это нескромно и не всегда убедительно.
«Почему бы мне, богатому дяде, — подумал я про себя, — не уделить чего–нибудь бедному родственнику?»
Последующие письма приносили новые свидетельства головокружительных успехов Антона. Пакеты становились объемистыми, стенную газету сменяли районная, городская и, наконец, областная. Все они отдавали дань заслугам Воробьева и неизменно помещали одну лишь фотографию Антона. Надежда Васильевна обратила на это мое внимание и едко добавила:
— Ваш милый племянник никого не терпит рядом с собой, даже на бумаге.
Ее ненависть к нему была беспощадна. Даже случайно она не обронила о нем доброго слова. Вряд ли ее огорчило бы самое ужасное, если бы оно постигло его.
В тот день, когда областная газета сообщила, что в обезьяньем питомнике клиническая смерть обезьяны длилась около получаса, письмо Антона занимало лишь четвертую часть страницы, небрежно выдернутой из тетради. Имя Воробьева в нем не упоминалось, туманно было сказано, что сердце опять обмануло Антона и на этот раз жестоко. Более подробно — при скорой встрече.
Ровно через две недели, ранней весной, мой племянник вернулся из Сухуми. Он выглядел, как всегда, здоровым и крепким, южный загар придавал его лицу свежесть и привлекательность. Если ему чего–нибудь недоставало, то разве лишь уверенности в себе. Он казался чем–то озабоченным, неспокойным и даже робким. Видимо, сильно не угодили ему, если внешняя веселость не могла скрыть его скверного самочувствия. Внутренне уверенный, что только ссора с Воробьевым так могла обескуражить Антона, я не стал его об этом расспрашивать.
— Где ты теперь намерен работать? — спросил я. — Твои успехи в питомнике дают тебе право серьезно заняться проблемой клинической смерти. Сам преуспеешь и меня порадуешь.
Мой совет почему–то не расположил к себе Антона. Он загадочно усмехнулся и с видом человека, которого ждут несоизмеримо более серьезные перспективы, сказал:
— С Воробьевым мы с первых же дней не сошлись. Наши характеры и взгляды не совпали. Он с самого начала был уверен, что растянуть стадию клинической смерти у обезьяны будет нетрудно. В животном мире немало таких, которые оживут спустя час и два после смерти. «Человек, — как он выражается, — инструмент особого рода, и опыты следует ставить только на нем…» Надо же додуматься, — не в шутку возмущался Антон, — ставить опыты на человеке! ..
— Не на человеке, — поправил я его, — а на том, что врачи называют трупом.
— Не сошлись мы с ним и в другом, — не слушая моих возражений, продолжал он. — Я стою за публичность в науке, за право народа знать, что творится в лабораториях страны, а профессор Воробьев держится взгляда, что наука — личное дело ученого… Какое уж это содружество, если один публикует статьи, а другой шлет в редакции опровержения… Тема клинической смерти исчерпана, — не очень последовательно закончил Антон, — и к ней возвращаться не стоит… Во все времена идеи имели двух отцов, — продолжал он выкладывать заранее приготовленную речь, — провозвестника и творца. Я надеялся быть скромным продолжателем. Увы, не удалось… Горький опыт убедил меня, что без достойного учителя и школы все мои старания будут напрасны. И еще я понял, что самое важное в жизни — творческий идеал. Это броня против скуки, одиночества и горя. Без этого талисмана, как говорил Воробьев, мы беспомощны и несчастны.
Последние слова были рассчитаны на то, чтобы растрогать меня и убедить, что его научные успехи счастливо совпали с его духовным возрождением. На меня эта речь не произвела впечатления, в ней не было той правды, которая отличает искреннее признание от упражнений актера. Надежда Васильевна назвала бы эту речь «декларацией, записанной на пленке».
— Где же ты все–таки намерен работать? — повторил я вопрос. — Ты уже подумал об этом?
— Я остаюсь у вас, — продекламировал он, — отсюда меня никто уже не сманит.
Его готовность связать свою судьбу с моей лабораторией не вдохновила меня. Я начинал понимать Антона и не считал его находкой ни для института, ни для себя.
— У нас это, к сожалению, невозможно… Ты, вероятно, многого не учел…
— Я все учел, — перебил он меня, — ваши исследования не меня одного привлекают, ими восхищается ученый мир. Воробьев утверждает, что поэты о них будут баллады писать…
Давно ли говорил он о наших опытах другое, предрекал неудачи и меня отвращал от них! Какая скверная память! Я вспомнил тревогу Надежды Васильевны, ее отвращение к Антону, представил себе разброд, который возникнет с его появлением у нас, и твердо решил не оставлять его у себя. Я готов был на все, чтобы вынудить Антона самого отказаться от нас, раззадорить его, крепко уязвить не слишком чувствительное самолюбие, выложить, наконец, все, что я думаю о нем. Не потерпит же он напрасной обиды и оскорблений!
Мне не нужно было придумывать повода для ссоры, я внутренне был готов к ней.
— Я тебя не понимаю, — с неожиданной для самого себя решимостью произнес я, — ты недавно лишь утверждал, что планы нашей лаборатории порочны и предстоящие опыты не интересуют тебя. Ты немало потрудился над тем, чтобы свои убеждения и мне навязать. Теперь ты с легким сердцем собираешься войти к нам в пай.
Сильней уязвить я не мог. Антон все еще был дорог мне, и развязывался я с ним единственно из желания сохранить в лаборатории мир.
Мои слова и резкость тона не задели его. Он с удивлением взглянул на меня и с почтительной улыбкой, в которой сказывалось искусство умиротворять капризы начальства, мягко сказал:
— Вы знаете мою бескорыстную натуру. Мне от вас ничего, кроме знаний, не надо. Я многому за это время научился и надеюсь, вы будете довольны мной.
У меня был еще один козырь против него. Уж очень не хотелось мне оставлять его у себя.
— У нас нет штатного места… Нам никто не позволит новых людей набирать… Обидно, конечно, но это от меня не зависит.
— Не позволят? — с пренебрежительной усмешкой произнес он. — Директору института приказано меня зачислить старшим научным сотрудником и штат лаборатории увеличить на одну единицу.
Он хлопнул в ладоши и, как фокусник, по знаку которого должен свершиться чудесный трюк, бросил на стол приказ о зачислении на службу.
— Как это ты умудрился? — только и мог я произнести. — И «штатная единица» и «старший научный сотрудник» — небесные силы покровительствуют тебе.
Как игрок, уверенный, что ставка противника бита, он щелкнул пальцами, развязно подмигнул мне и сказал: