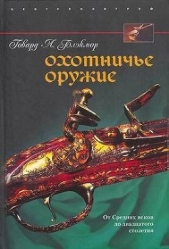Охотничье братство

Охотничье братство читать книгу онлайн
Проза одного из старейших ленинградских писателей Алексея Ливеровского несет в себе нравственный, очищающий заряд. Читателя привлекут рассказы о Соколове-Микитове и Бианки, об академике Семенове, актере Черкасове, геологе Урванцеве, с которыми сблизила автора охотничья страсть и любовь к природе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На ходу все чаще спотыкаюсь. Как паду, в дянки снегу набьется, не отогреть рук — машешься, машешься, пока отойдут. Приморозило сильно. Снег под ногами: визь! визь! На чистом волк далеко отходил, в густом — рядом: на следу кало еще парит, в снег проседает. И все: звень! звень!
Скучно мне. В лесу притихну — встречи жду. На открытое выйду — песню пою. Все перепел, что знал, и наши, и городские, и военные. И разговариваю громко: «Что, приятель, тошно? Думаешь, мне лучше? Нет — ты в лесу дома, а я?..» Замолчу, враз тимит и тимит — спать хочется. Дороже всего прилечь, да нельзя.
Скажешь, Леня: что толку было? Он идет, и я иду, так? Нет, ждал, как встретимся; встречались чаще и чаще. Проще сказать, рядом шли. Другой раз все время на виду. Мне только наверняка: остался один патрон, и то пуля жакан. Подхожу не прямо, наискось. Никак! Побочит обязательно. Дистанцию соблюдает. Точно, еще оскалится. Большой волчина, сивый, одно ухо рваное. Сколь раз ружье подниму, целюсь и опущу — верного нет.
В тот вечер, как затаборился, богатство привалило — нашел за подкладкой кусок хлеба и табаку пясть, все вместе. Положил на газетину, табак по крупинке стряхиваю. Перво закурил, хлеб решил с чаем, смородовым из гильзы. Тут беда! Стал огонь дуть, руки плохо владеют, отскочила головка спички в коробок — он весь пых! С руки в снег и погас. Мать дорогая! Как ночь без огня? Небо вызвездило, мороз — аж деревья трещат, пропаду.
И стало мне страшно. Вот как обернулось. Сел на лапник, затосковал. Спать хочется — нельзя, смертельное. Домой не сойти: на ходу, правда, не застынешь, да сил нет ночью без дороги по лесу. Выходит, не волку — мне концы.
Погоди! Спичек нет, есть два патрона: осечка и пуля. Надо спробовать. Настругал сухой деревины мелкомелко, бересты нащипал, с елки сколь мог наколупал серы. Все грудкой сложил. Стой! Пулю не трону — может, осечечный капсюль сдаст. Вытащил пыж, высыпал картечь на ладошку, второй пыж вынул. Тут порох, споловинил его. Половину в гильзе оставил для выстрелу, половину с ватой смешал, из фуфайки клок вырвал. Дуло к вате приторнул, курок вздынул. Сдаст не сдаст осечечный капсюль по второму разу? Хлоп! Крепковато стрелило, всю грудку разметало, и вата в сторону. Все! Концом! Не вышло. Гляжу как дурак на ватку, и, бог ты мой, из нее дымок слабенький. В момент грудку сгреб, ватку чуть не в рот, потихоньку дую — разгорелось. Жив, Васька, жив!
Костер распалил опять у большой сушины. Табашный хлеб съел. Чайку — так пить хотелось! — двенадцать гильз шестнадцатого калибра вскипятил, выпил, покурил и спать. Мертво сплю, а все равно сон вижу.
Сидит в нашей избе жена моя, молодая-молодая, как замуж брал. Дверь из сеней чуть приоткрылась, волк голову просунул, внутрь не идет, говорит: «Паня! Паня! Скажи своему мужику, чтобы бросил. Я дюжее, кабы худо не вышло. Поедем со мною в город». Во, нечистая сила, какая чепушина в голову! Потом будто я на покосе, полдничаю в самую жару у стога в теньке. И холодно стало. Я из тени на солнышко. Еще холодно, повернулся — хорошо, тепло, и враз спину, как ножом. Проснулся, вскочил — фуфайка горит, спина и рукав. Скинул, в снег толкаю, пар пошел, загасло, да не сразу. До свету спал не спал.
Утром стал костер поправлять, чуть в огонь не пал — качает, как пьяного. Вот тут-то, Леня, я решил домой. Дойду не дойду, надо. Чаю пустого выпил, покурил. Спину жжет и холодит. Глаза закровянели, на снег гляну — он не белый, в краснину. Собрался, тронулся, пять шагов от костра: звень! звень! звень! Друг-то мой рядом спал, только что к огню греться не подходил. Тут он и был всю ночь. Бог с тобой, живи! Как с капканом справишься? Плохое дело.
С вечера ветерок был, так я таборился в овраге, от костра понизу и пошел, логом, значит. Иду, топор за поясом тяжелит — бросил. К ольшине прислонил, запомнил где. Чужой топор, шурина… Только поставил, гляжу — впереди след. Значит, и он впереди меня логом. Пойми дурака — принял след. Ружье проверил — нет ли снегу в стволе, где пуля. И опять как черт веревкой связал — он идет, и я за ним. Овраг долгий, считай, с полкилометра, не меньше; под ногами замерзший ручей, идти просто. Мало не доходя вершины оврага, след повернул наверх, на крутик, и скрылся за гребнем. Постоял я в том месте, где поворотка. По плоскому, по ровному еще бы потянулся, в гору никак. Сдался. Тебе скажу, у самого слезы из глаз. Вот так.
Вершина у оврага отвоная — выбрался легко, попал на поле. Отдыхаю. Не надо было оглядываться, оглянулся. Поле чистое, заметено, ни следа, ни слединки. Нет на него выхода с оврага, кроме моего! И посередь оврага, у гребня, за кустом сереет — он!
Леня, друг ты мой хороший! Я вернулся, вернулся! Запомнил по сухой деревине, где лежит, и до нее вниз по оврагу… Дошел, чуть дальше свертки было. Помнил, пуля в правом стволе… Курок вздынул. Отдыхаю, прикидываю, откуда воздух. Он встречь от волка, на меня.
Шапку на снег бросил. Ступни боком, шаг за шагом лесенкой наверх. Что дальше, то круче. Отдохну, шагну. На самом крутом скользнул снег по траве, и я за ним шага три сполз. Слышал? Сошел? Не должно быть — не звенит, тихо. Дятел прилетел, сел на сушину: квик! квик!
Чуть в сторону подался, шагаю наверх. Пригнулся. Сердце под фуфайкой: грём! грём! Услышит? Гребень близко. Палец в скобу сую, кажется толстым, припух, что ли? Осторожно надо: сыграет раньше время, припасу один патрон. Ружье вперед, голову постепенно. Морда! — в пяти шагах. Уши торчком, одно рваное, спит. Целюсь, мушка над ушами — низковато стою. Пр игнулся еще ниже, шаг наверх, разгибаюсь. Морда поднята, уши прижаты, зубы оскалены. Тороплюсь, целюсь между глаз: чёс!
Попал не попал — не знаю, от отдачи вниз скатился. Откуда сила, рывком вверх. Лежит, уши развесил, по шерсти рябь. Готов! Все!
Пал я рядом на снег, и в голове помутилось. Очнулся — тут я, и он тут. Друг ты мой, серый волк! Легкая тебе смерть! С места не крянулся, а голову поднял. Может, и рад, что убитый, — тошно от меня было. И не было спасенья…
Что дальше? Опять дальше. Снял шкуру, пока можно, и скажи, как он скоро закоченел. Шкуру мне и не вздынуть. Стащил в овраг, в снег зарыл, сверху положил стреляную гильзу, чтобы зверь не тронул. Ушёл. Как домой добрался — не спрашивай.
До свидания, Матвеич! До скорого свидания, милый человек. Рассказал ты сам про себя. Прочтут люди — узнают, живут рядом такие невидные, неприметные. А волки? Волки по-прежнему, как заметят, что ты бросил взгляд на их следы, пусть лучше уходят от твоих карих глаз за тридевять земель…
В те годы — вскоре после войны — я увлекался глухариными токами. Не глухарями, а именно токами. Не так много охотился, как разыскивал. Каждый вновь найденный ток был для меня счастьем. Охотиться я мог и в Лисинском учебно-опытном охотничьем хозяйстве, которым я тогда заведовал. Там все тока были зарегистрированы, описаны. Вокруг Ленинграда я знал уже около полусотни различных глухариных токов: от малых, где пели один-два петуха, до гремящих — в двадцать певцов от битых, пуганых, непонятно как существующих, до спокойных, никем еще не найденных.
В разговоре с Евгением Николаевичем Фрейбергом, моим дядей — он был тогда старшим охотоведом военно-охотничьего хозяйства Чудовского района, — я пожаловался, что стало прибавляться охотников и неразумно выбивают тока: может их совсем не остаться.
Дядюшка сказал:
— Есть еще, есть места, где тока хорошие, есть и нетронутые. К примеру, Сенная Кересть, там Матвеич.
— Матвеич? Кто такой?
Лицо Евгения Николаевича осветилось такой добротой, скажу даже, лаской, что ответ не удивил:
— Ну это сам увидишь, если туда доберешься. Матвеич это… это Матвеич.
Добирался на попутном грузовике. Рейсовые автобусы Чудово — Новгород тогда не ходили. По моей просьбе машина остановилась у железнодорожного переезда близ деревни Трегубово. Грузовик ушел, наступила благостная тишина ясного весеннего дня. Я стоял у путевой будки рядом со стрелочницей. Мы удивленно молчали. Я разглядывал, поражаясь, воронку от авиабомбы: глубокая, с озерком на дне, она образовалась в углу на пересечении шоссе и железной дороги и раздвинула их в стороны.