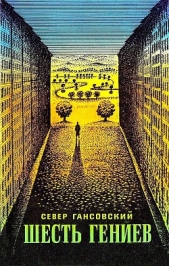Таврия

Таврия читать книгу онлайн
Над романом «Таврия» писатель работал несколько лет. Неоднократно бывал Олесь Гончар (1918–1995) в Симферополе, Херсоне, Каховке, в Аскании Нова, беседовал со старожилами, работал в архивах, чтобы донести до читателя колорит эпохи и полные драматизма события. Этот роман охватывает небольшой отрезок времени: апрель — июль 1914 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А паныч?
— Паныч как паныч: ходит и слюни пускает… Но не на ту напал. Даром, что в парижах не училась, — засмеялась вдруг Ганна, — а так гоняю на корде, что мыло с него летит!..
— Сама бы в вожжах не запуталась…
— Не запутаюсь, Вутанька. Они грамотные, но мы тоже ученые… Позавчера на коленях уже стоял. Золотые горы обещает. В шелка, мол, одену, наукам обучу — на двенадцати языках будешь разговаривать… Дядек каждый день подсылает, чтоб уговаривали маня, склоняли на его сторону…
— Как они там сейчас, хранители твои?
— Сторожат ночами при зверях, а днем баклуши бьют… Жилетки на себя нацепили, бороды подстригли — смотреть противно…
— Остерегайся их, Ганна. Они на все способны!
— Знаю. Потому-то и пригревает их паныч… Но я их теперь тоже вымуштровала, на цыпочках ко мне заходят… Сегодня сели было за кучеров ехать сюда. «Ах вы, нахалы, — говорю, — да как вы смеете? Чтоб дегтем на меня от вас всю дорогу смердело? Пошли вон отсюда, я вашего духа не выношу!» — Ганна захохотала, плавно покачиваясь, словно пьянея. — Взяла Валерика и поехала с ним…
— Боюсь я за тебя, Ганна, — вздохнула Вутанька. — С огнем играешь…
— Я сейчас такая, что хоть с самим чертом готова играть, Вутанька. Насмотрелась за это время их нравов. Вижу, что мозолями тут немного приобретешь. Напролом надо идти, если хочешь дорогу себе пробить.
— Ого, как ты после Искании заговорила…
— Еще бы не заговорить. Ты тут далеко, а я теперь в самой берлоге живу, вблизи вижу, как добывается панство. Там, как на Каховской ярмарке, пощады нет никому. Каждый готов тебя живьем в землю втоптать, лишь бы только себе побольше урвать в жизни. Что паны, что подпанки, — все только на свои клыки надеются, силой все берут, никакого греха не боятся. Барышник на барышнике едет и холуем погоняет! Вначале, как очутилась среди них, так даже страшно стало: как здесь жить? Только и слышишь о всяких ссорах, подкупах и жульничестве… А потом, когда огляделась, увидела, кто нами правит, так прямо злость меня взяла!.. Почему Софья холуями правит? Почему не я ими правлю? Иногда такой лютой отвагой сердце нальется, что, кажется, полком солдат командовала б!.. А он горничной меня назначил, сезонной любовницей хочет сделать. Ха-ха! Не знаешь ты еще меня, паныч, не разобрал, чего мне надо…
— А чего же ты хочешь от него?
Ганна помедлила с ответом, улыбнулась:
— Венца!
— Ганна! — с ужасом воскликнула Вустя.
— А что, не достойна?
— И ты… пошла бы? За этого суслика в очках? Свет себе на весь век закрыть?
— Всякое я передумала за это время, — успокоившись, ответила Ганна. — У тебя, Вустя, дорога ясная: ты уже скоро молодичка, нашла себе пару — хлопец, как орел…
Орел!.. Словно горячими угольями осыпала Ганна подругу, сама того не заметив.
— Выбрала, кто понравился, — продолжала Ганна, — кого сердце подсказало… Значит, судилось тебе. Но думаешь, всем такое счастье, как тебе, выпадает? Сколько девушек выходит за нелюбимых, за стариков, за богатых вдовцов, лишь бы на хозяйство сесть…
— Хозяйство… Какие хозяйства, какие достатки могут сравниться с любовью!.. Это ты, Ганна, потому так говоришь, что никто еще тебя не обнимал, никого ты еще не любила по-настоящему…
— Может, и потому. Может, и не судьба мне по любви выйти… А тут такой случай… Все эти степи необъятные, — Ганна провела рукой вдоль горизонта, — могут моими стать… Кто бы не задумался на моем месте?.. Тут миллионы, а там батрацкая торба… Разве ты забыла, почему мы с тобой очутились на каховоком торжище? В скрынях пусто, в хатах голо — вот почему… И пусть вернусь я в Кринички с каким-нибудь рублем, — разве это надолго меня спасет? Кто меня там возьмет, бесприданницу? Опять пойдешь, Ганна, по хуторам в навозе копаться, каждый будет над тобой измываться… Нет, осточертело!
— Но ведь и за него… Как с ним жить, как с ним в постель ложиться, если не любишь…
— Зато пановать буду. Ох, буду пановать, Вутанька! Дай мне только венец, дай те миллионы, что всех ослепляют… Буду стоять среди них, как в солнце! Сразу и красоту Ганны заметят, и умной для всех будет, человеком, наконец, станут считать. Не подойдет уже на ярмарке какой-нибудь пьяный барышник ощупывать тебя, как кобылицу… Смотришь иногда, ничтожество, в подметки тебе не годится, а и оно норовит тебя чем-нибудь унизить, хихикает над тобой, как ведьма. Не она тебе, а ты ей должна стежку уступать… О, венец бы мне, Вутанька, венец! Я б тогда показала им свою натуру, все припомнила б! На огне отплясывали б они мне все наши батрацкие обиды!
Не узнавала Вустя подругу: всегда спокойная и уравновешенная, Ганна сейчас говорила, как пьяная. Не раз, видно, втайне упивалась она картинами своих будущих расплат с обидчиками.
— Паныч у меня под пятой будет, барыню в узелок скручу, все в имении по-своему переставлю… Людьми торговать никому не позволю, заставлю всех правдой жить!
— Ой, Ганна, Ганна… Правдой жить!..
— Увидишь. По всем таборам, по всей степи новые порядки заведу. Батракам — почет, они у меня артезианскую будут пить, а всех трутней-приказчиков на гнилую посажу, что после овец остается… Саму барыню илом с головастиками напою!
— Широко ты размахнулась, Ганна… Вряд ли поведет он тебя под венец… Для него ты — мужичка.
— Вустя, — наклонившись, промолвила Ганна шепотом, хотя никого поблизости не было, — уже обещал!
— Наобещает, а потом… обманет и бросит.
— Нет, обмануть себя я не дам, — строго возразила Ганна и примолкла.
— А как тебя там челядь принимает? — спросила погодя Вутанька.
— Не ладится у меня с ними дружба… Каков пан, таковы и его слуги… Только и знают, что с доносами бегают, а меня от этого воротит… Единственный, с кем я могу душу там отвести, это Яшка-негр…
— Что за негр?
— О, Вустя! — повеселела вдруг Ганна. — Такой он славный! Все смеется и кудрями встряхивает да так белками и светит… Сердце у него доброе, человечное какое-то… Не знаю, почему Артур на него собакой взъелся… Проходу от него Яшке нет, хоть бы уже скорее выметался в свою Америку… Приехал на три дня, а застрял так, что не выкуришь… Сам ноги на стол, как свинья, кладет, а на Яшку все «бой» да «бой». Дался ему этот «бой» [8]. То не так перед ним стал, то не так повернулся… Ненавидит человека только за то, что у него кожа черная!.. А по-моему, что же здесь такого? Из горячих краев человек вывезен, там солнце круглый год жарит, — разве не почернеешь?..
— Это не страшно, Ганна… Кто еще знает, какие мы будем, когда проведем не одно лето в этой степи, под этой беспощадной жарой… Кожа — пусть! Душа б только не почернела!
— И я так думаю, Вутанька, даром что сама не люблю загара. Вначале и для меня он был каким-то не нашим, а теперь, когда ближе познакомилась, легко, хорошо мне возле него. Так хорошо, Вутанька, как ни с кем еще не было! Вчера вышли мы с ним за имение и пошли далеко в степь, на курган поднялись… Остановился он, загляделся в сторону моря и вдруг заговорил по-своему, нежно, задушевно… И может, как раз потому, что языка его африканского не понимаю, все, о чем он говорил, таким хорошим, таким красивым казалось мне… Словно чары какие-то пила, будто музыка лилась на меня… Сердце таяло, так было хорошо… Может, он нарочно по-своему говорил, чтоб я не поняла его нежности? А я словно все понимала, не надо было и двенадцати языков вот тех… Стоит и будто раскрывает передо мной далекие неведомые края, где вечная весна цветет, где жаворонки круглый год звенят, где над озерами белые чайки смеются…
— И паныч тебя к нему не ревнует?
— Какие могут быть ревности, Вутанька, ведь арап для них не человек. Наоборот, и панычу и барыне нравится, чтобы мы чаще бывали с Яшкой вдвоем, чтоб Аскания о нас говорила… А как он на гитаре умеет играть, как песни свои поет!.. Когда слушаю, кажется, что и не черный он, а просто себе Яшка. Слушаю и ясно слышу, как ему горько дома жилось, и как горько сейчас живется, и какой одинокий и славный он…