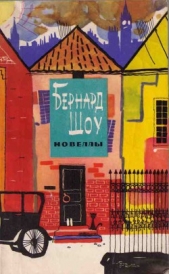Блокадные новеллы

Блокадные новеллы читать книгу онлайн
Новую книгу известного советского писателя Олега Шестинского составили рассказы о людях родной земли, прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление подростков, переживших суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он запомнил один из выходных предвоенных дней. В стареньком грузовичке трясутся они компанией в лес за город. На широкой, заросшей ромашками поляне женщины расстилают скатерть, вынимают из кошелок тарелки, закуски, а мужчины, праздничные, по-молодому щеголеватые, орудуют штопором, режут хлеб. Женщины в ярких платьях, они щебечут, именно щебечут, а не разговаривают, и ощущение, что впереди долгий-долгий весенний день, поднимает у всех настроение.
Кто-то, подняв рюмку, лукаво улыбается и запевает:
И, не сговариваясь, все подхватывают: Мальчик девочку целует…
И в этот миг его Ирина машет рукой, кричит: «Постойте, товарищи! Что же это мы! Давайте споем сначала «Гремя огнем, сверкая блеском стали…» Все сбиты с толку, и больше всех Иван Афанасьевич, лица скучнеют, но никто не решается возразить Ирине, и над стрекочущим кузнечиками лугом звучит дружно, но деревянно:
Потом снова чокаются, поют задорные песни, но нарушено настроение и бездумно-радостного отдыха уже пет. Ивану Афанасьевичу неловко перед своими товарищами сослуживцами.
На фронт Иван пошел добровольцем, на второй день войны. Ему никогда не забыть прощального митинга на небольшом пятачке перед вокзалом, где в мирное время танцевали, а сейчас воздух тяжелел от плача, смеха., музыки, пронзительных речей и неторопливого завывания паровозов. Наспех сколотили подмостки и с них произносили напутствия. Ирина шептала Ивану что-то ласковое, но сквозь толпу протиснулся к ней взъерошенный и взмокший человек с красной повязкой на рукаве, торопливо сказал: «Ваша очередь». Ирина, твердо взглянув на удивленного Ивана, пошла за этим человеком и через минуту, взобравшись на подмостки, стала произносить речь от имени женшинсолдаток. Она говорила четко и патетично, в меру жестикулируя; в одном, особо драматичном месте—когда призывала мужей не посрамить земли русской — даже сорвала с головы платок. Кто-то рядом с Иваном прислушался к словам, крутанул головой, сказал: «Лихо чешет». Иван слушал, и ему тоже казалось, что Ирина говорит здорово. ІІ > внезапно пришла мысль — все, что говорит Ирина, не только от ее патриотизма, но и от нелюбви к нему, к Ивану. Неужели те десятки женщин, которые стоят, вцепившись в ш:і- нели своих мужей, заглядывая им в глаза, всхлипывая, быстро утирая слезы, улыбаясь, меньше ее любят Родину, и слова Ирины, сказанные с подмостков, полнее всего выражают эту любовь?
Потом Ирина, как и все, махала ему рукой и даже скинула слезу с ресницы, но все равно какая-то грусть пришла к Ивану и не оставляла его.
Ирина тоже ушла на фронт, и встретились они только после войны, — встретились людьми совсем иными, чем расстались, пережившими за жестокие годы бог знает что. Ирина порой с удивлением присматривалась к Ивану Афанасьевичу— он постарел, поседел, но какая-то неведомая сила вошла в него, и она ошущала ее в его голосе, жесте, даже походке.
В сорок седьмом, в пасмурный осенний день, приехал брат Ивана Афанасьевича — Петр. И хотя он был на несколько лет младше Ивана Афанасьевича — выглядел стариком, редкие волосы шевелились на голом черепе, глаза сузились и потускнели. Он скинул в прихожей видавший виды вещмешок, и когда братья обнялись, Иван почувствовал дрожание рук Петра. Они не знали о судьбе друг друга с начала войны и теперь стояли, переполненные братской нежностью, не зная, с чего начать разговор. «Где же ты воевал?» — наконец спросил Иван. Петр усмехнулся криво: «На огороде у фрица, главным образом». И рассказал, как еще осенью сорок первого попал в плен, мытарил по лагерям, а потом батрачил на ферме в Саксонии. «Что же не бежали?»— вскинула брови Ирина. Петр ответил просто: «Пробовал два раза, да ведь не каждому везет».
Братья долго сидели за столом. Иван томился ожиданием ужина, который, ему думалось, должен разрядить скованность, возникшую в доме. Он крикнул Ирине на кухню: «Ну, как там, не подрумянилось?» Ирина появилась на пороге, одетая в пальто, с сумкой в руках, сказала спокойно: «Я в гости к маме. Братца сам попотчуешь». Она произнесла слово «братца» таким медовым и потому отталкивающим тоном, словно хотела сказать—«кого пригреваешь — труса, немецкого батрака! Да я с таким под одной крышей и сидеть не хочу!»
Иван понял это. Весь напружинившись, подскочил к ней, сжал запястье, выговорил с придыхом: «Жарь!» Но она отстранилась и молча вышла на лестницу.
В тот вечер, неловко суетясь и угощая брата, выведывая о его днях, трагических и неприкаянных, он как бы исподволь в себе ощутил, что никогда ей не простит этого. И даже не то, что «не простит», но не сможет воспринять ее.
А жизль текла, текла, текла…
…Иван Афанасьевич поступил решительно: собрал в деревянный, еще армейской юности, чемодан самые необходимые вещи, объявил жене:
— Я ухожу.
— Далеко? — оторвалась она от чтения.
— Насовсем.
Жена сморщила нос, постукала тетрадкой о подлокотник кресла.
Она встала с кресла и, вглядываясь в бледное лицо мужа, словно во что-то незнакомое, спросила необычно:
— Куда, Иван? А я как же?
«А я как же?» — Иван Афанасьевич уловил в ее тоне не боль перед внезапной разлукой, а эгоистическое ее смущение оттого, что происходит нарушение норм жизни, принятых правил, доброустойчивости быта.
— Не ожидала, — сказала супруга, и Иван Афанасьевич заметил, что глаза у нее покраснели, и какая-то секундная жалость кольнула Ивана Афанасьевича.
— Видишь ли… — начал Иван Афанасьевич, и оттого, что вся его жизнь громоздилась перед ним и он не находил слов, чтобы передать жене свое состояние души, годами вызревшее, он махнул рукой и, подхватив чемодан, вышел на лестницу.
На пороге Дашиного дома он появился каким-то странным, непонятным и пронзительным. В демисезонном пальтишке, с поднятым воротником, в кепочке, сбитой набок, с фанерным чемоданом он имел вид то ли погорельца, ищущего приют, то ли провинциального студента, заявившегося в столицу.
Они долго разбирали чемодан, и Даша старательно разглядывала немудреные вещи — будь то зеркальце для бритья, финская лыжная шапочка или линейка. Она словно хотела узнать прежнюю жизнь этих вещей и еще больше стать сопричастной жизни человека, так неожиданно входящего в ее жизнь. И каждой вещи она отвела особое место, с каким-то ей одной понятным смыслом расставляла их, и потом, когда оглядела свою одинокую вдовью комнату, даже застеснялась, настолько преображенной выглядела комната, посуровевшая от обиходных мужских предметов.
Рядом с Дашиным домом начинался сосновый бор, посередине которого синим овалом лежало озеро. Они любили ходить туда по вечерам. Мягко ступала нога по прошлогодней хвое, шумели вершины, и одинокие вороны, распластав крылья, пролетали, задевая ветки и грустно перекликаясь между собой.
Иван Афанасьевич и Даша гуляли в сумерках. И потом где-нибудь на взгорьях, залитых таинственным лунным светом, он поворачивал ее к себе, разглядывал лицо, такое простое, в скорбных морщинках возле губ, и она становилась еще дороже Ивану Афанасьевичу.
Иногда Иван Афанасьевич ловил себя на мысли: совсем не потому, что Даша моложе, он тянется к ней, а потому, что ему, вот уже на склоне дней его, открывается нечто такое, чего он при всей своей разнообразной жизни не видел, не узнал, пропустил — мягкость человеческой души.
Он радовался, когда просыпался утром чуть раньше ее, и, лежа рядом, не шевелясь, ловил миг ее пробуждения — вот дрогнули ресницы, сонно раскрываются глаза. Он гадает, что она увидит первым, когда проснется: белый ли фарфоровый ролик на проводе, или бьющуюся о стекло муху, или цветок на подоконнике? И он задумывал—если она увидит ветку раньше всего, то они никогда-никогда не расстанутся. Когда она уже совсем раскрывала глаза, он с замиранием сердца спрашивал: «Что ты увидела, когда проснулась?» Даша улыбалась полусонно и ласково говорила ему: «Тебя». И Ивану Афанасьевичу все равно становилось очень хорошо от ее слов, хотя она и не угадывала. В этом таилось что-то наивное и мальчишеское, но он не стеснялся.