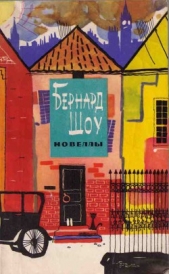Блокадные новеллы

Блокадные новеллы читать книгу онлайн
Новую книгу известного советского писателя Олега Шестинского составили рассказы о людях родной земли, прошедших нелегкие испытания. Нравственное становление подростков, переживших суровые дни блокады Ленинграда, характеры наших современников, чистые и правдивые образы русского человека встают перед читателем во всей жизненной достоверности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Шухер? — вдавился он в стенку.
— Нет. А скажи-ка, к сеструхе ты спешишь?
— Чего спешить? Она ведать не ведает о приезде. Да и помытарюсь я еще по поездам.
— Знаешь, сейчас Галич будет, к хорошей старухе я еду в гости, давай-ка со мной! Денька три передохнешь, сдобы домашней отведаешь — и дальше.
Петр посмотрел на меня недоуменно.
— Я ведь не шебаршился, я впрямь из колонии. Куда же в гости, дядя Иван? (Так он меня стал звать, хотя я всего на пять лет был старше его.)
— Да все по-новому, — потянул я его за рукав.
— Ну, гляди, дядя Иван, сам звал, — протянул Петр, спрыгнув с полки и отряхиваясь.
Девушки глядели на меня остекленелыми глазами, как на смертника. А я, решившись на такое приглашение, вновь проникся к ним нежностью. В окне уже мелькали галичские станционные пристройки.
— Звоните, милые, — помахал я девушкам, — через месяц буду в Ленинграде.
Они столпились у окна вагона и неотрывно смотрели, как мы с Петром пересекаем вокзальную площадь.
— Ты, дядя Иван, рисковый человек. Я бы тебя на любое дело взял… В прошлом, конечно, — добавил Петр.
— Теперь, Петр, ты бы и о манерах своих, и о языке подумал, — иначе заживешь, — наставительно заметил я.
— Это верно, — просто согласился Петр, — время е ше нужно, чтобы отвыкнуть.
— Ты и считай, что это время уже и идет, — улыбнулся я.
Таисия Петровна была извещена о моем приезде и искренне обрадовалась, что я приехал не один, а с товарищем. Жила она одиноко, в большом, разрушающемся доме. Жизнь ее текла неухоженно, неустроенно. Петр это приметил.
— Дров-то у вас колотых почти нет. Дайте топор, потюкаю.
— Что ты, Петруша, за тем ли пожаловал? Подрядился тут мне Агафон переколоть, да пока еще ему неможется, от праздника не отошел, сердечный…
— Дайте-ка топор, — повторил Петр.
Он не торопясь взял топор, провел ногтем по лезвию, буркнул:
— Не для работы, — и принялся его точить о брусок, который нашелся у Таисии Петровны.
— Да какого человека ты мне привез! — восхищалась Таисия Петровна, когда мы с нею вошли в дом. Она ставила на стол под пофыркивание самовара все, что было в доме припасено, и время от времени, прислушиваясь к ударам топора, всплескивала руками:
— Да какого человека ты мне привез!
Потом, когда чай поспел, она открыла окно и певучим голосом пропела:
— Чай, Петруша, парком зовет.
— Порядком еще осталось, — сказал Петр, вытирая льняным полотенцем руки, — завтра у вас похозяйничаю.
— Воистину бог вас послал, — перекрестилась старушка, и мы занялись чаепитием.
Таисия Петровна словоохотливо поведала нам о своем житье-бытье, о местных новостях, жаловалась порой:
— Одна я, одинешенька, не долго уж топотать… Все прахом пойдет после, как угомонюсь. И цветочки завянут в горшочках, и мыши книги церковные пожуют, и иконки-то мои охламонам достанутся, — осерчала она, — а иконки-то в серебряном обрядье, серебро-то не нонешное, чистопородное.
Петр пил с блюдца, скосив в него глаза, и его склоненный, чуть вздрагивающий нос втягивал шумно аромат чая.
«Ни к чему она о серебре», — подумалось мне, и я вставил:
— Нынче серебро не в цене, кому оно требуется, да и тусклое оно у вас, поиссохлось от времени.
Видно, зря я это сказал, задел старуху за живое:
— Да ты, батенька, погляди, какой у меня в сундуке складень. Кому завещать не знаю, поскольку религия-то теперь редко у кого в почете.
Петр чуть оторвался от блюдца и, не поднимая головы, взглянул на меня в пол-ока и подул на чай, волнами разгоняя его по окружности.
— Есть такие, которые собирают иконы, — тихо произнес он, — большие деньги зарабатывают на купле-продаже.
Настроение у меня стало портиться. Говорили что-то не то. И Таисия Петровна некстати со своим серебром, и Петр, как бирюк, в чай уткнулся.
Таисия Петровна не успокаивалась:
— Архиерею в Кострому завещаю да твоей бабушке — вот уж персты надежные.
— Точно надежные, не то что наши, — поддакнул Петр и растопырил свою пятерню.
— Нынче зимой стужа сильная была? — стал я выправлять беседу.
— Стужа всамделишная, в одной комнате и жила для теплоты, ее и топила… Где сундук стоит… — уточнила Таисия Петровна. — А что же я — уморила вас! С дороги и отдых работой почитается.
Таисия Петровна постелила нам в большой комнате, где стояли две никелированные кровати, а сама отправилась к себе в горницу, вниз.
Проснулся я внезапно, на раннем рассвете, полуоткрыл глаз; в окно струился бледный свет, чуть тронутый розовой зарей. Я лежал не шевелясь и увидел, что Петр уже проснулся и, стараясь не производить шума, медленно натягивает брюки. Я принялся осторожно, не двигаясь, следить за ним. Вот он, ступая беззвучно, не надевая ботинок, подошел к выходной двери, придерживая створки, открыл дверь и вышел. Дверь он прикрывать не стал, видимо памятуя, что с вечера она издавала скрип, когда ее распахивали. Я ясно видел, как в глубине коридора он наклонился, прихватил правой рукой топорище, вскинул его на уровень глаз, к чему-то примериваясь, и, прижав топор к груди, так же бесшумно начал спускаться по лестнице.
Я почувствовал, как на лбу у меня выступила испарина. Что он задумал? Что предпринять мне? Я клял себя за все свои благородные порывы.
Вскочил с кровати, схватил попавшуюся мне на глаза медную кочергу и поспешил вслед за Петром по лестнице. На лестнице никого не было. Дверь в комнату Таисии Петровны была полуоткрыта. С бьющимся сердцем я толкнул эту дверь и застыл на приступке. На кровати, в дальнем углу комнаты, лежала старуха, рука ее неестественно свисала с кровати, скрюченная, высохшая нога высовывалась из- под отброшенного одеяла. Лица ее я не видел, оно скрывалось в тени от нависшего ситцевого полога. И вдруг я заметил на полу протянувшуюся от кровати до самой кадки с фикусом узкую полоску какой-то темной жидкости. Я не отрываясь смотрел на застывшее под одеялом старушечье тело, сжимал до ломоты в пальцах кочергу. Я пододвинулся на несколько шагов к кровати. Неожиданно старуха задвигалась, подоткнула рукой одеяло, ясно открыла глаза и спросила ласково:
— Чего тебе, милый?
Кочерги она, к счастью, не приметила.
Язык у меня отнялся, но тем не менее я пробормотал:
— Часы встали. Сколько времени?
— Да погляди, — сказала старуха. Ходики, висевшие посередине стены, показывали пять часов.
— Спасибо, — пролопотал я и, пятясь и пряча кочергу, выбрался из горницы. Постоял, ошеломленный, в сенях и вышел во двор.
Петр, стоя под навесом сарая, разбирал кругляши, готовя их для колки.
Он взглянул на меня, на кочергу, усмехнулся.
— С печью уже шуруешь, дядя Иван?
— Да нет, я по пути взял, — смутился я, — а ты чего в такую рань?
— Надо старуху обиходить, и в путь пора. Загостился, — он снова усмехнулся.
— Чего же так? Ведь на три дня собирался.
— Сам знаешь, дядя Иван. Пригласил ты меня сгоряча, а сейчас никакой веры в меня нет. Как людям сообщаться без веры? — спросил он глухо, словно выявляя напряженную работу своих мыслей.
— Неправда, — попытался слукавить я.
— Нет, правда, — строго сказал Петр, выпрямляясь.
Таисия Петровна С тряпкой в руках показалась на пороге.
— Ох, раннобудные! Спать бы да спать! А я кадку с фикусом вчера в потемках перелила, она и течь у меня дала. Замою пол, а там и самовар затеплим.
Петр расколол все дрова; попил чаю; сославшись на большую занятость, попрощался с озадаченной и расстроенной Таисией Петровной и со мной; растворил калитку и пошел к городу, на вокзал.
— Хороший человек, — раздумчиво произнесла Таисия Петровна.
— Хороший, — вслед за нею повторил я и затосковал сразу и надолго, потому что осознал, что он вправду хороший, что он лучше меня, и еще неизвестно, смогу ли я стать таким, как он.
Трудное дело — ЖИЗНЬ
Ивану Афанасьевичу шел пятьдесят пятый год, но осанка все еще была молодой, стройной. Последние пятнадцать лет работал он в маленьком районном городе учителем истории и, кроме того, ведал краеведческим музеем.