Казачка
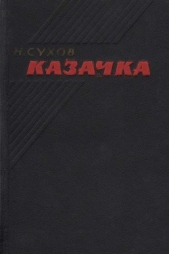
Казачка читать книгу онлайн
Роман "Казачка" замечательного волгоградского писателя-фронтовика Николая Васильевича Сухова посвящен четырем годам жизни обыкновенной донской станицы. Но каким годам! Разгар Первой мировой войны, великие потрясения 1917 года и ужасы Гражданской войны — все это довелось пережить главным героям романа. Пережить и выжить, и не потеряться, не озвереть в круговерти людских страстей и жизненных коллизий.
Роман Николая Сухова успешно продолжает и развивает славные традиции истинно народного повествования, заложенные в знаменитой эпопее М. Шолохова "Тихий Дон".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вези поклон от нас Дону, родной землице. Бог его знает, сколько еще нам придется тут… маяться. — И Зубрилин вздохнул.
Разговор этот произошел вчера вечером, а сегодня Федор, поднявшись с постели раньше всех — он почти не спал всю ночь, — не знал куда себя девать. Часы до завтрака ему показались изнурительно длинными. Казакам он пока еще ни о чем не говорил. Боясь горьких разочарований, старался обмануть себя, внушить мысль, что отпуск его дальше комитета не продвинется. Когда кто-то из казаков притащил кипятку, Федору хоть и не до чая было, он все же вместе со всеми сел за стол.
Пашка Морозов, по обычаю, веселил казаков своими шутками. Всегда он находил о чем рассказать или над чем пошутить. Не поднимая со стола кружки, прикладываясь к ней губами и хлебая, он говорил:
— На закате солнца иду я по нашей улице — из штаба возвращался, — иду, значит, и слышу: поют. Остановился, повертел носом. А был я возле самой кирки ихней, стало быть, церкви. Вижу: дверь у кирки открыта. Я туда. Вошел помаленьку, смахнул фуражку. В кирке народу полно. Всякого. Сидят, покачивают головами, и все сразу тянут, по-своему, ничего не разберешь. Чудно так! Не по-нашему, ей-бо! Ни свечей, ни лампад. Поп ихний впереди стоит и тоже чего-то лопочет. Я подсел к одному рыжему дяде — он отодвинулся немножко — и тоже начал подтягивать. Они псалмы, стало быть, а я в лад с ними «Ехал на я-яр-манку у-ухарь купе-ец…» Ей-бо! Смотрю: один, паря, косится на меня, а рыжий дядя поглядывает на меня и кивает: «Смелее, смелее, мол». Да. Подтянул, значит, с ними…
В комнату вошла полная, средних лет женщина — хозяйка — с крупными и резкими чертами лица. Пашка, увидя в ее руке ведро с молоком, оборвал на полуфразе и притворно вздохнул:
— Эх, братики, хорошо тому живется, кто с молочницей живет! Весна, зеленая травка, на хуторах теперь пруды молока. Чаек со сливками. Э-эх! — и подморгнул Жукову, знатоку чужеземной речи.
Тот сидел спиною к двери. Поняв Пашку, он повернулся к женщине и просяще сказал:
— Хозяюшка, додман пиена?
Женщина молча налила молока в кофейник — лицо ее было бесстрастно — и так же молча подала на стол.
К концу чаепития пришел Федоров и Пашкин одногодок Латаный. Он служил в другой сотне и, как по хуторянам соскучится, наведывался к ним. Любил, бывало, Пашка подтрунить над ним. Но это было там, на хуторе. А теперь он относился к нему по-иному. Встречал его всегда радушно и дружелюбно. Иногда сам к нему захаживал. В военном обмундировании Латаный казался и ростом выше и более складным. Даже цветная сторона его лица как-то померкла и не стала так бросаться в глаза.
— Подсаживайся ближе, вот кружка, — предложил Пашка, когда Латаный поздоровался.
— Я не хочу. Только что…
— Сытого хорошо и угощать.
— Что новенького в вашей сотне? — спросил, вылезая из-за стола, Федор.
Латаный обвел казаков глазами. Взгляд его задержался на раздвоенной, с косым и глубоким шрамом щеке Жукова.
— Есть кое-что. Может быть, вы уж слыхали. Из нашего взвода вчера… Не слыхали? Тягу домой дали двое. Самовольно. Оба из Алексеевской, четвертой очереди.
Казаки вдруг вскинули головы, загремели кружками, ставя их на стол. О том, что кто-то там убегает с фронта, и в особенности солдаты, им слыхивать приходилось. И не однажды. Но чтобы убегали из их же полка, такие же, как и они сами, — это было в диковинку. Всех заметней оживился Жуков, самый старый из квартировавших здесь. Он тоже четвертой очереди и со дня на день ждал, что год его будут отпускать. Но ожидания его пока были тщетными. Разговоры о том, что престарелых казаков распустят по домам, дружно гуляли по полку. Откуда эти разговоры взялись — неизвестно.
— Как же они?.. Вот народ! И ты их знал? — Жуков забыл даже о недопитом молоке. Машинально подобрал крошки хлеба, рассыпанные по столу, кинул их в рот и подошел к Латаному.
— Вот так здорово! Спал рядом с ними — и не знал. Скажут, тоже…
— Ну, и как? Неужто они ничего вам не говорили? И вы не знали ничего? — любопытствовал Жуков. Он развернул кисет, подсел к полчанину и, угостив его табачком, подробно начал расспрашивать обо всем, что имело отношение к казакам, давшим «тягу домой». Днем ли, ночью ли они скрылись? взяли ли с собой чего-нибудь или нет? пешком или на конях?.. И по тону Жукова, по всему его облику, ясно было, что владело им что-то гораздо большее, чем простое любопытство.
Федор покрутился по комнате, послушал хуторянина и, гонимый нетерпением увидеть председателя, вышел.
На улице, против соседнего дома, о чем-то спорили два казака. Тот, что стоял передом к Федору, коренастый, с багровым лицом и усами щеткой, был вахмистр — его легко было узнать по широким, тусклого серебра галунам, поблескивавшим на погонах, рукавах и воротнике. Другого, стоявшего затылком к Федору, угадать было трудно. Погоны его без нашивок, — значит из рядовых. Насколько можно было понять по выкрикам, спор у них шел о наряде. Вахмистр, видно, куда-то назначал казака, а тот под всякими предлогами отказывался.
— Ты что мне!.. Что я тебе — кум, что ли? Стань «смирно!» Ты где это — в гостях у тещи?! Да я тебя!.. — кричал рассвирепевший вахмистр.
Казак лениво выгибал спину, водил по ней тыльной стороной ладони, и ветхая защитного цвета гимнастерка, в бурых от пота полосах, морщинилась на нем; другая рука была засунута в карман брюк, и тупой локоть вызывающе топорщился. Сквозь отпарывающуюся на локте заплату белела нижняя рубашка. Левая нога в грязном сапоге небрежно выставлена вперед.
— Ладно тебе, Фомин… орать-то. Разорался! — миролюбиво, с нотками досады, басил казак, продолжая чесать спину. — Вот про́клят!.. Лазает какая-то. И мыл вроде бы. А вишь ты… Живущи́е! — Вдруг он выпрямился, насторожился. Ветерок откуда-то принес едва слышную песню: «Ехали казаченьки со службицы домой…» По разнобою голосов чувствовалось, что поют ее захмелевшие люди. — Игра-ают! А? Видал! — преображаясь, воскликнул казак, и веснушчатое лицо его расплылось в улыбке.
Вахмистр, увидя Федора, нахмурился, нахлобучил на глаза козырек фуражки. А Федор, отвернув голову и будто не замечая, гордо прошел мимо. Со времени их схватки в Рени, когда Федор сгоряча тычком кувыркнул вахмистра, между ними началась открытая вражда. Полгодом раньше враждовать с вахмистром Федору было бы труднехонько. Тот скрутил бы его в два счета. Не то теперь, когда появились казачьи комитеты, и сам Федор, к негодованию вахмистра, попал в члены комитета, и даже полкового. Вахмистр пробовал, когда еще стояли в Рени, возбудить против Федора дело. Но из его попытки ничего не вышло: рапорт его начальство замяло.
На перекрестке Федор встретил гурьбу казаков. Заполонив пол-улицы, они шумно и беспорядочно брели в направлении дамбы, ведущей по болотистой низине к железнодорожной станции. В большинстве тут были пожилые, видалые и бывалые люди. За время стоянки они изменились, помолодели. Даже изношенное обмундирование на них выглядело свежее и чище. Наружностью, пожалуй, могли бы даже порадовать командиров, — впрочем, кроме как наружностью, вряд ли еще чем-нибудь они могли их порадовать. Впереди всех шел бравый, видно, отчаянный казак. Шел он легкой и размашистой походкой, из-под околыша его фуражки дыбился рыжий чуб. Казаки дружно переговаривались, кто о чем, и из общего их гомона выделялся чей-то тонкий высокий голос:
— …на станции видал надась! Целых полчаса стоял поезд. Зачем бы он стал говорить! Мы же не тянули его за язык. Вот так, говорит, мы лежали, русские, по перелеску, а подальше, саженях в ста, а может, и побольше немного, — их окопы. Когда, говорит, они взголчатся — нам слышно бывает. Только понять, конечно, ничего, мол, не можем: они по-своему, по-болгарски. Они в нас не стреляют, а мы — в них. Я, говорит, то бишь он, солдат, какой рассказывал, — я, говорит, как увижу, что начальства возле нас нет, поднимусь из окопа и начну шапкой махать, шумлю: «Эй, мил дружки, давай сюда, покалякаем!» Они тоже машут, смеются. А один раз вроде бы сползались вместе, табачком друг друга угощали. Болгарин одному нашему бритву подарил. А погутарить, конечно… кабы знали…
























