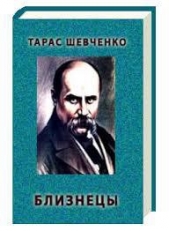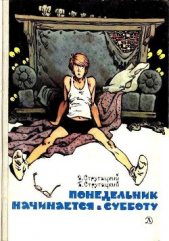Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник)
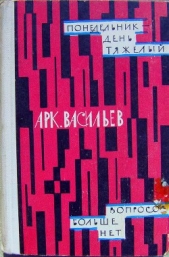
Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник) читать книгу онлайн
В сатирическом романе «Понедельник — день тяжелый» писатель расправляется со своими «героями» (бюрократами, ворами, подхалимами) острым и гневным оружием — сарказмом, иронией, юмором. Он призывает читателей не проходить мимо тех уродств, которые порой еще встречаются в жизни, не быть равнодушными и терпимыми ко всему, что мешает нам строить новое общество.
Роман «Вопросов больше нет» — книга о наших современниках, о москвичах, о тех, кого мы ежедневно видим рядом с собой. Писатель показывает, как нетерпимо в наши дни равнодушие к человеческим судьбам и как законом жизни становится забота о каждом человеке.
В романе говорится о верной дружбе и любви, которой не страшны никакие испытания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Давно пора бы всему выветриться, а мне показалось, что от развалин крематория все еще пахнет…
Мы осматривали уцелевшие двухэтажные кирпичные бараки, их здесь по-прежнему называют блоки. Огромная груда женских волос за стеклянной перегородкой. Тысячи пар обуви с отодранными каблуками — искали, нет ли бриллиантов; к самому стеклу прижалась крохотная сандалета — для ребенка трех-четырех лет. На носочке виднелась металлическая подковка, мама позаботилась, чтобы дольше носилась сандалетка…
А я все думала о Сереже: «Вдруг он был тут?»
Переводчик все рассказывал и рассказывал:
— Здесь было ужасно, но особенно ужасна была судьба заключенных, попавших в зондеркоманду — по обслуживанию крематория. Эти люди работали, если это можно назвать работой, в аду. Они сжигали своих товарищей и понимали, что через неделю их самих сожгут, как опасных свидетелей. Многие заключенные, узнав о назначении в зондеркоманду, бросались на колючую проволоку, через которую был пропущен ток.
Я все думала о Сереже. Он бы упал на проволоку со смертельным током…
Переводчик все рассказывал и рассказывал:
— Посмотрите на портрет этого молодого гитлеровца. Обыкновенное лицо, смотрите, он даже слегка улыбается. Он расстрелял во дворике между десятым и одиннадцатым блоком из мелкокалиберной винтовки двадцать шесть тысяч человек…
А вот и дворик. Видите, за стеной березка… Это было последнее, что видел приговоренный к смерти…
Я все думала о Сереже. Может, и он последний свой взгляд бросил на эту березку…
Потом мы были еще в одном блоке. На длинных столах под стеклом лежали разграфленные листы: номер, фамилия и имя, число, часы и минуты казни. И я прочла: «7560. 12. 7. 25. Кошкин Федор». Чуть ниже: «7568. 12. 7. 30. Варламов Василий». Я все помню. Это у меня навеки отпечаталось в памяти, как татуировка. И я поверила, что Сережа пропал без вести…
Уже половина восьмого, а их нет. Куда же они подевались? Конечно, сидят в кафе-мороженом… Стало быть, все хорошо…
Что это со мной сегодня? Все вспоминаю и вспоминаю. Хватит… Сколько у нас осталось денег? Ну-ка, мать, посчитай лучше — сколько? Эти неприкосновенные, на плащ Наде… Эти расходные…
Она очень красивая, польская писательница. Сначала мы не знали, кто она. Она разговаривала с англичанами около «блока смерти». Потом подошла к нам и сказала по-русски: «Добрый день, товарищи!» Она высокая, у нее большие голубые глаза и темные брови.
Мы увидели ее еще раз в городе Освенциме, в кафе. Мы все очень зябли. День был морозный. И все выпили по рюмке водки. Она называлась «познанская горькая». Почему я все помню? Сразу стало тепло. Мы разделись. Писательница снова подошла к нам. У нее горели щеки. На стуле лежало ее пальто. У нее пышные каштановые волосы. Она опять сказала по-русски очень чисто: «Здравствуйте, товарищи! Вы из Москвы? Давайте выпьем за Москву!» Когда она подняла руку, я разглядела татуировку, цифру 55908. Майя Капустина тоже разглядела и шепнула мне:
— Видишь?
Женщина с татуировкой выпила рюмку и засмеялась, очень хорошо засмеялась, весело.
— Я люблю Москву! Жизнь люблю!
Она подсела к нам и начала рассказывать:
— У меня сегодня особенный день. В такой же день… — Она беззаботно махнула рукой и, совсем как старая знакомая, весело сказала:
— А ну их… Посмотрите на моих сыновей.
Она показала нам снимок — три мальчика — и нежно сказала:
— Тадеуш…
В этот момент ее окликнули:
— Товарищ Живульская, мы уезжаем!
— Иду, — ответила она и встала.
Накинула пальто и послала нам поцелуй.
— Привет Москве!
Переводчик рассказал, что это писательница. Кристина Живульская. Она была заключенной в Освенциме. И сегодня ровно десять лет, как ее спасла Советская Армия. Теперь она пишет веселые рассказы. Но переводчик, видно, не знал про ее самую интересную книгу. Она стоит у Коли на полке: «Я пережила Освенцим». Я ее читала и все думала о Сереже: если он был там, она могла видеть его…
…Сорок три рубля. За квартиру уплачено, за свет и газ тоже. Хватит на все. Можно будет купить Коле новую рубашку с короткими рукавами…
Без двадцати восемь! Слава богу, звонок. Иду. Если были в кафе-мороженом, я им так всыплю… И голодные, наверно…
МОЖЕШЬ ДУМАТЬ, СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ
Как я теперь буду жить? Кто я теперь? Бывший кандидат в члены КПСС. Бывший. Не оправдавший доверия. Беспартийный, не оправдавший доверия. Васька Голубев завтра меня спросит: «Ну как? На щите или со щитом?» Ну и пошлю же я его ко всем чертям… Посылай, посылай… Он сам тебя пошлет. Он честный беспартийный советский рабочий, ударник коммунистического труда, а ты Николка Грохотов, не оправдавший доверия.
Что я привязался — доверие, доверие, доверие… Как будто нельзя жить без доверия. Можно… Спросу меньше, как говорит Васька Голубев. Нет, нельзя жить без доверия. Совсем нельзя. Трудно. Невозможно!
Характер у меня скверный. Старший лейтенант Медников тогда мне сказал: «Воспитывай свои характер, Грохотов, иначе пропадешь в гражданке…» Он тогда обиделся на меня. Но я был прав. Нельзя все время говорить солдату, что он должен умереть за Родину. Я тогда сказал: «Умереть каждый дурак может, а вот победить врага не всякий сможет. Выходит, учиться надо не умирать, а побеждать!» А он мне: «По-твоему, Александр Матросов и Гастелло тоже глупо поступили». Мне надо было ответить, что я так не думаю, они герои, а я начал издалека: «У них не было иного выхода, но для Родины было бы лучше, если бы Матросов прикрыл амбразуру не своим телом, а телом врага…»
Как он тогда на меня налетел, лейтенант Медников: «Хорошо тебе рассуждать, сидя под мирным небом! Очень много ты о себе понимаешь, Грохотов. Такие, как ты, умники, могут только опозорить нашу Советскую Армию!» Мне бы надо промолчать, а меня черт дернул ответить: «Воспитание, которое вы проповедуете, неправильное — солдат должен думать не о смерти, а о победе!» Он мне: «Молчать!» Я ему: «Я не в строю, а на комсомольском собрании…»
Ну что мне стоило промолчать. Зачем я в эту ссору полез! Все равно Медникова мне не переубедить. Он же сам признался, что за всю свою жизнь не прочел ничего лучшего «Исповеди девушки».
И все-таки я прав — солдат должен думать о победе! А я сейчас о чем должен думать? О какой победе?
Интересно, приняли бы они меня, если бы вместо Телятникова был Силантьич? Допустим, Телятникова не было бы. Ну и что? Больше всех говорил этот… она называла его Матвей Николаевич. Когда говорил седой, в золотых очках — он профессор, — я думал, что меня примут. А когда начал этот Матвей… мне все стало ясно — будь здоров, Николай Грохотов, жить тебе беспартийным. А Телятников дошиб окончательно: «У гражданина Грохотова нет ни капли уважения к рабочему коллективу». Она строго посмотрела на него, строже, чем на меня. Или это мне показалось? И сказала: «Почему у гражданина? У товарища…»
Профессор перестал протирать очки и усмехнулся.
А второй секретарь Петр Евстигнеевич, тот, что сидел справа от нее, укоризненно покачал головой, я это совершенно ясно видел. У Телятиикова даже бровь задергалась. Он, видно, ее боится… А кого он не боится? Он всех боится. Как они этого не понимают. Он сразу поправился: «У товарища Грохотова, я хотел сказать… У товарища Грохотова вошло в привычку манкировать общественными обязанностями…» А ты? Ты разве не манкируешь? Когда ни зайди, тебя никогда нет — то в райкоме, то в горкоме. Ты все это за зарплату — до пяти вечера. А после пяти тебя как ветром выдувает. Какой же ты общественник… Я видел, как ты на партийном собрании зевал. Раз двадцать! Тебе скучно было, вот ты и зевал, аж скулы трещали.
«У товарища Грохотова вредные наклонности к уходу в индивидуализм, сопровождаемые стремлением побольше заработать…»
Господи ты боже мой! Как он все ловко сформулировал!
«В один из месяцев товарищ Грохотов дополнительно, сверх основного сдельного заработка на комбинате, получил на лодочной станции за произведенный им ремонт лодок, будки и причального настила двадцать рублей, а взносы в партийную кассу с этой дополнительной суммы заработка уплатил спустя несколько месяцев…»