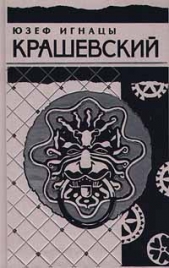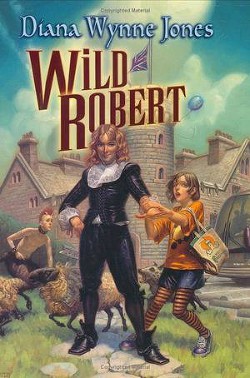Дикий селезень. Сиротская зима (повести)

Дикий селезень. Сиротская зима (повести) читать книгу онлайн
Владимир Вещунов родился в 1945 году. Окончил на Урале художественное училище и педагогический институт.
Работал маляром, художником-оформителем, учителем. Живет и трудится во Владивостоке. Печатается с 1980 года, произведения публиковались в литературно-художественных сборниках.
Кто не помнит, тот не живет — эта истина определяет содержание прозы Владимира Вещунова. Он достоверен в изображении сурового и вместе с тем доброго послевоенного детства, в раскрытии острых нравственных проблем семьи, сыновнего долга, ответственности человека перед будущим.
«Дикий селезень» — первая книга автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Оголодал, не кормлю я тебя! На, подавись своими пирогами. — Ирина скомкала промасленную газету и бросила в лицо мужа.
Не помня себя, он оттолкнул жену. Она чуть ли не села на круглый стол, стоявший посреди комнаты.
Как будто от угара, у Михаила зазвенело в голове, помутилось в глазах, и ему захотелось поскорее выбраться из этой слепой угарной мути.
Он встал и замахал руками, как барахтается в воде неумеющий плавать.
— Попробуй тронь! — перебирая за спиной руками по кромке стола, Ирина обогнула стол и, пятясь, споткнулась о приступку балконной двери. — Только задень! Не подходи ко мне. Не трогай меня! — отрывисто выкрикивала балкона она и яростно била себя кулаками по коленям.
Михаилу хотелось махать и махать руками и идти напролом, сметая все на своем пути, и обрушить балкон с орущей женой. Однако испугавшись своей жестокости, он стал лихорадочно и бестолково одеваться, порвал носок, все попадал двумя ногами в одну штанину; серый тугой свитер надел задом наперед, и ворот лез ему в рот, а под мышками стянуло так, что руки приподнялись коромыслом.
Михаил спешил. Успеть бы одеться и уйти, пока она криком исходит на балконе. «Скорей же, Забутин! У-у, черт, ну быстрей же!» Он даже не стал надевать туфли, схватил их в охапку вместе с пиджаком и плащом и хотел было выскочить в подъезд и там одеться как следует, да вспомнил про электробритву. Ее надо обязательно взять. Небритый, Михаил чувствовал себя как больной. Пригнувшись, на цыпочках, точно вор, он подкрался к трельяжной тумбочке, щелкнул дверцей и нащупал кожаный футляр «Бердска». Когда привстал, жена была уже у двери.
Прикрыв усохшее за какие-то минуты лицо волосами, которые отсвечивали и потому казались пепельными, она щепотью держала пучочек волос и прикусывала кончик его, исподлобья виновато и настороженно глядя на мужа. Когда он подошел к двери и хотел было взяться за ручку, Ирина за нее ухватилась первой, тем самым давая понять, что не пустит его. Михаил хотел отшвырнуть жену от двери и выйти вон, но взял себя в руки и с нервной медлительностью надел туфли, пиджак и плащ. Ирину напускное хладнокровие мужа вновь вывело из себя. Она отскочила от двери, резко распахнула ее, будто Михаил уходил не сам, а изгонялся, и указующе выбросила руку вперед:
— Иди, иди к своей мамочке. Можешь больше не приходить. — И запрыгала, толкая мужа в спину.
Он отмахнулся от нее, она отлетела и завопила ему вслед:
— Нализался и больным прикинулся. Не мужик, а тряпка. Ненави-и-жу-у-у!.. — Ирина упала на колени, лбом уперлась в захлопнувшуюся за Михаилом дверь и в отчаянье застонала: — Себя ненавижу… Себя. Что же он так?! Не понимает…
Анна Федоровна сидела со старушками на лавочке. Увидев сына, она почувствовала неладное и, постукивая медной клюкой, заспешила в подъезд, как бы поторапливая Михаила, чтобы соседи ни о чем не могли догадаться. Она никак не могла открыть дверь и, вынув ключ, дожидалась сына. Он с беспечным видом подошел к матери и с наигранной веселостью потрепал ее по плечу:
— Принимай, мамуся, на житье. Авария. Ушел я от нее.
Анна Федоровна вздрогнула:
— Ой, ой, — и выронила ключ.
Михаил наклонился за ключом, в висках застучало, и сильнейший прострел выше поясницы точно пригвоздил его к полу. Он попробовал чуть-чуть разогнуться, и тысячи иголок разбежались по спине. Ему стало страшно. Такая пронзительная сквозная боль никогда не поражала его. «Это нервы», — подумал он, а матери прокряхтел:
— К непогоде тянет: старость не радость. — И разгибаясь сантиметр за сантиметром и открывая дверь, объяснил свой уход от жены: — Скандалистка она. Ни с того ни с сего накинулась. Обваляла… — хотел сказать «пирожками», да раздумал и неуклюже добавил: — в ругани.
Анна Федоровна запричитала, заприговаривала:
— Как же так, Миша? Позор-то какой. Стыд и срам. Как же теперь в глаза людям смотреть? Нет уж, сынок, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Терпеть надо.
Прощать надо. Не со зла она. Не излечилась еще. Ты бы к ней с бережью, она бы и отошла от нервов.
— «Не излечилась… Нервов…» — раздраженно перебил ее Михаил. — Что же она на стену не кидается? Головой не бьется? Значит, не такая больная. Распустят себя донельзя и устраивают концерты. Театр одного актера. Хватит об этом, мам. Ушел — и баста. Не видишь — загрипповал. Колотит всего…
Он проснулся оттого, что в который раз во сне опоздал на поезд. Простоял за билетами и опоздал. Последнее время в снах он все время толкался на вокзалах, заскакивал на ходу в вагоны, потом оказывалось, что едет не туда, «уда надо, спрыгивал с подножек и снова толкался у касс.
Сейчас Михаил проснулся от огорчения. И билет купил, и успел бы вскочить в последний вагон, да дорогу перерезал товарняк. Поезд, на который он не сел, прямо с железнодорожного пути сошел в воду, в море и почапал себе будто пароход. Как тут не расстроиться? Когда сны становились слишком переживательными, Михаил убеждал себя, что это сон, и просыпался.
Разговаривали мать с Громским.
— Мишане надо девку попроще, без закидонов. А эта что из себя корчит? Родители простые, а она прямо куда там вся из себя. И приструнить нельзя: хата ее. Не-ет, я, теть Нюр, к жене в дом ни-ни. Другая сноха вас бы, теть Нюр, на руках носила бы.
— Кабы да абы, выросли б грибы. Посмотрим, как у тебя жизнь сложится. Живут они без году неделя — рано судить. А мне снох никаких не надо. Я без их, слава богу, перемогаюсь. Одного боюсь: обузности своей. Может, удастся вовремя умереть. Я вишь, Костя, изроблена вся, а сердце ровно молот кузнечный, до того ударное. Вот и страшусь: тело, как шелуха, высохнет, а сердце-то бухать останется. А кому такое буханье надобно. Ладно бы паралик и его хватанул, чтоб не бухало, когда не просят.
— Ты, теть Нюр, меня извини, конечно. А как ты определишь, когда тебе на покой отправляться пора?
— Опять за рыбу деньги. Когда до туалета дойти не смогу. Не дай-то бог до этаких пор дожить, чтобы майкались со мной. Миша и так из-за меня учебу бросил.
— Ирке надо завязывать с педом. И так психованная. Институт ей нервы мотает, а она Мишке.
— Нонче заканчивает, с образованием будет.
— Какая из нее учительница. Уж мы на что архаровцы были, а нынешние ученички вовсе оторви да выбрось. Я бы на месте Мишани ультиматум бы ей поставил: или я, или институт.
— Никаких матов не надо. Можно по-хорошему. Миша сроду не ругивался так-то. Не привыкли еще. Приладятся друг к дружке, и пойдет житье. Она ведь за него обоими руками держится. С родителями на юг не поехала. А в школе пущай сама себя попытает. Может, и поглянется. А тебя, Константин, попрошу вот об чем. Оклемается Михаил, ты уж его не подзуживай супротив ее. Что она, дескать, меня не признает, потому он должон уйти от нее опять ко мне. Уйти никогда не поздно. Чуть что, крыша над головой у Миши всегда есть. Но с Ириной жить можно. Не какая-нибудь свистушка — порядочная. Не пьет, не курит, не то что некоторые. Хозяйственная: рукодельница и сготовить поесть умеет. Характером тяжеловата, дак все мы на характер-то не сладки. Подход нужон, время. Была я у них. Больно этаж высокий. А так приветила меня неплохо, хорошо приветила, зря не скажу. Поменьше бы советчиков со стороны мешалось в ихние дела — лучше бы было дело. Ты уж его, Костя, настрой, чтобы домой возвертался. Ирина поди и сама себе не рада.
Михаил на последние слова матери глухо сказал:
— Никуда я не пойду, я насовсем…
— Мишаня, очухался!» — обрадовался Громский. — Вставай давай, довольно вылеживаться. Праздник, а ты… Давай хоть пивка попьем.
Они вспоминали детство, пили за холостяцкую свободу, за дружбу, спорили о футболе…
Наутро третьего дня Михаил поднялся раным-рано и отправился на работу пешком, чтобы прийти в себя. Все ликующие краски майского утра казались ему ядовитыми; оголтелое верещание птиц резало слух.