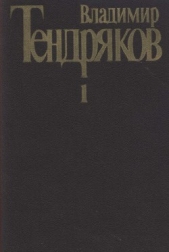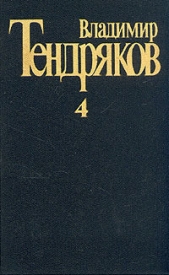Собрание сочинений. Том 4. Повести

Собрание сочинений. Том 4. Повести читать книгу онлайн
В настоящий том вошли произведения, написанные В. Тендряковым в 1968–1974 годах. Среди них известные повести «Кончина», «Ночь после выпуска», «Три мешка сорной пшеницы», «Апостольская командировка», «Весенние перевертыши».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сын молчал, и тогда костлявый кулак старика ударил в костлявую грудь:
— Глядишь?.. Гляди, от кого ты родился! Нас называли твердокаменными! И как могло случиться, что от меня, твердокаменного, родился ты, резиновый? Ты служил Лыкову не за идею, а за жирный кусок! Презираю тебя, как презираю сытость!
— Ишь ты, «презираю»… — скривился Чистых-младший. — А небось когда я от себя посылал тебе маслица там или медку, то не презирал, на помойку не выбрасывал — внутрь принимал.
— Вон-но что… Медок… А ты помнишь, чтоб я тебе за этот сладкий медок хоть раз когда-нибудь сладко улыбнулся? Медок принимал… А почему, разреши спросить, поч-чему весь мед должны съесть шкурники? Пусть хоть немного перепадет честному человеку… И чтоб доказать, что меня медом не купишь, то вот… — Старик выкинул в сторону дверей костлявую руку с крючковатым, неразгибающимся, разбухшим в суставах указательным пальцем: — Вон! Слышишь — вон отсюда, лизоблюд!..
Примерно в это самое время в селе Пожары втихомолку переживалась еще одна беда.
Вечером вернулась к себе изруганная женой Лыкова Алька Студенкина.
Дед Матвей, Алькин свекор, пропутешествовавший после долгих лет лежания на печи до дому председателя (это, считай, другой конец села), ни на полати, ни на печь от усталости взобраться не смог, лежал на голой лавке, не скинув валенок, накрывшись о головой полушубком.
Алька его трогать не стала, сама по привычке разделась, по привычке легла в постель — ночь подходит, положено спать.
Но спать, какое уж…
Стояло перед глазами лицо Ольги — злоба до синевы, слова одно другого дурней, с надрывом. А Ольга-то — смирней бабы не найдешь по селу. А Чистых… К Восьмому марта духи дарил в коробочке с кисточкой… Шуганул: «Марш отсюда!»
Стояло перед глазами перекошенное лицо Ольги… Глухая ночь во дворе, только где-то в стороне прокричали пьяные голоса да смолкли… Глухая ночь и долгая. В такую ночь не единожды можно пробежать по жизни, от какого-нибудь солнечного зайчика на бревенчатой стене — первого, что попало в детстве в твою память, — и до… до крика Ольги.
Бывала ли счастлива?.. Как не бывать.
Она идет из города, ей девятнадцать лет. Да было ли еще девятнадцать-то, пожалуй, чуть не хватало… Шла из города. И пошел теплый дождь, и облака какие-то кисейные, свет пропускают, так что весь воздух сверкает серебром. Тяжелые, нацеленные с неба капли бьют по клеверу, клеверные головки сердито вздрагивают. А после дождя — синие лужи, после дождя — медовый запах с обмытого клевера, мокрое насквозь платье, босые ноги чувствуют тучную силу влажной земли. И сила притекала, заполняла тело, рвалась наружу, хотелось бежать, бежать вперед, вперед, хотелось жалеть кого-то крепко, кого-то утешать и радовать.
На темной дороге среди временных синих лужиц стоял одинокий путник. Чем-то он был озабочен, что-то он творил про себя. А она изнемогала от переполнявшей силы, от щедрости, от острого желания кого-то жалеть. Она смело подошла к нему: военная фуражка, гимнастерка, мешок за спиной. И чуть не застонала — рука-то у него ранена, висит на шее. И вот оно что, колдует — свертывает цигарку, весь в это ушел, ее не замечает. Не простое дело — рука-то одна, вторая в бинтах.
— Дай помогу.
Он вскинулся и оторопел… от ее лица. И она сразу смутилась — рука на перевязи, мокро поблескивает медаль на груди (тогда боевая медаль была редкостью), да еще глаза, застывшие в изумлении под лаковым козырьком военной фуражки.
— Дай помогу.
— Помоги, — согласился он.
Семен Студенкин ушел в армию, когда ей исполнилось едва четырнадцать лет. Попал на финскую — попортило руку, получил медаль «За отвагу». Рука срослась быстро, на войну с немцем его мобилизовали одним из первых. Алька получила только одно письмо с фронта, второй весточкой была уже похоронная.
Была ли счастлива?.. Как не быть. Год жила с Семеном душа в душу. За этот счастливый год она много лет обиходила старика Матвея, отца Семена, как могла, следила, чтоб был сыт, чтоб ходил в чистом да не драном…
А Евлампий?.. Нет, с ним не было счастья. Жила, как белка на жидком тальнике, загнанная собаками, сорвись — попадешь в зубы.
Долго же держалась, теперь, считай… сорвалась.
Ольга Лыкова — смирная баба, завтра подымутся все, кому не лень: ты сводня, ты блудница! Беги, Алька, спасай себя!
Бежать?.. А куда?..
Кому ты нужна, растолстевшая, сорокадвухлетняя баба? Нет ни молодости, ни красоты, руки от настоящей работы отвыкли. Кому нужна? Только деду Матвею, и то ненадолго, и тот скоро помрет. Короток бабий век.
Алька лежала в темноте на своей вдовьей кровати. Когда-то на ней впервые обнял ее Семен, крик утренних петухов пробивался к ним сквозь стены. У Семена были жесткие, ласковые руки, до сих пор, как вспомнишь их, — тоска во всем теле. Семен не успел состариться, старилась она, а он так и остался молодым.
Здесь она принимала Евлампия, принимала, случалось, и других после него. Евлампий не Семен — молодым никогда не был. Теперь и Евлампия, считай, нет. Все остальные — тоже для нее покойники, живет о них только смутная память.
Далеко, далеко позади серебряный дождь, а впереди от минуты к минуте все ближе утро. Это утро не стоит видеть, за ним — плевки, ругань, грязь взахлеб. Для кого-то и настанет утро, для нас — ночь без края.
Минута за минутой идет время. Идет к концу бабий век.
Она лежала с сухими глазами — не так уж и богато ее прошлое, чтоб горько оплакивать, а будущего нет. Лежала, не спешила, спешить некуда — пока время есть, рассвет не скоро.
Лежала отдыхала, набиралась сил, еще и еще раз без устали припоминала серебряный дождь, оторопелые глаза из-под мокрого козырька военной фуражки…
Она дождалась первых петухов и поднялась… Покинула теплую постель, где было так уютно перебирать незатейливую жизнь, со стороны дерзко, с чужим равнодушием оглядываться на себя и испытывать горькое удовольствие от принятого решения.
Она покинула постель и сразу же почувствовала зябкий страх — не мечтай, а делай, что решила.
Ночь еще не прошла, душная, жирная тьма заполняла избу, только вкрадчиво синели окошки. С далекой окраины долетел последний хрупкий петушиный крик — сломался. Лишь тревожно шумела кровь в ушах да галопом рвалось из груди сердце.
Чего-то не хватало в избе, чего-то привычного. Обжитой до устали дом казался сейчас чужим. И зябкость, и жирная ночь, заполнившая бревенчатые стены, и невнятный страх, мешающий сделать шаг от кровати. Тишина шуршала в ушах, непонятная тишина, в ней чего-то недоставало.
И вдруг Алька поняла — чего! На ознобленной коже зашевелились мурашки. В тишине не слышно было надсадно тяжелого дыхания старика. Словно его нет в избе. А он же лежит, он тут, на лавке, она его чувствует, даже видит мягкую округлость стариковского полушубка, чуть прикрывшего низ невнятного синего окна.
Леденея от ужаса, хватаясь за стену руками, она двинулась к выключателю, нашарила — звонкий щелчок, до ломоты в глазах яркий свет.
Жмурясь всем лицом, дрожа всем телом, с усилием донесла себя до лавки на ослабевших ногах, боязливо, издалека потянула на себя полушубок.
— Дед… Эй, дед!..
Изуродованная работой рука старика свалилась с лавки, костляво стукнула в пол.
По селу на серых снегах улочек натужно вызревал дымчатый унылый рассвет. Село покойно спало, равнодушно пережив еще одну петушиную перекличку.
Лампочку Алька только что выключила. Мутный свет вползал в избу, означая щели на темных бревенчатых стенах, фотографии в простенках, узловатые сучки на изношенном полу.
Матвеи Студенкин лежал на лавке животом и грудью, плоский, спрятав голову в полушубок, выставив напоказ огромные растоптанные валенки, упираясь чугунно-темной рукой в пол.
Алька, накинув поверх нательной рубахи шаль, сидела, съежившись, под выключателем и плакала. Оплакивала и старика, который много лет сиротливо прожил с ней под одной крышей, оплакивала и самое себя, свое круглое одиночество.


![Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/uploads/posts/books/49841/49841.jpg)