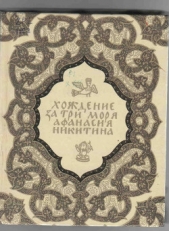Заря вечерняя
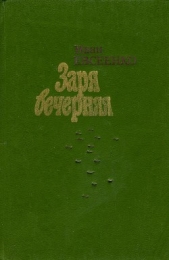
Заря вечерняя читать книгу онлайн
Проблемы современной русский деревни: социальные, психологические, бытовые — составляют основное содержание сборника. Для прозы воронежского писателя характерны острота постановки социальных вопросов, тонкое проникновение в психологию героев. В рассказах и повестях нет надуманных сюжетов, следуя за потоком жизни, автор подмечает необыкновенное в обыденном. Герои его произведений — скромные труженики, каждый со своим обликом, но всех их объединяет любовь к земле и работе, без которой они не мыслят человеческого существования.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Филот, заметно волнуясь, снял фуражку, ударил ею по своей широкой прокуренной ладони и снова надел на самую макушку, так, что козырек воинственно задрался в гору.
— Сколько запросишь?
— Сколько дадите, — не стал торговаться Николай. Он даже приблизительно не знал, сколько могла стоить сейчас корова.
— Семьсот рублей, Филот Ильич, — пришла на помощь Николаю Соня. — Корова сам знаешь какая!
— Знаю, — пуще прежнего заволновался Филот. — Старая корова. Шестьсот пятьдесят и мой магарыч.
— Не надо магарыча, — едва сдержал улыбку Николай. — Забирайте.
Соня осуждающе покачала головой, но ничего не сказала, молча пошла вслед за Николаем и Филотом в сарай. Филот снял с жердочки повод, по-хозяйски оглядел его и накинул корове на рога.
— Потом занесу.
— Не надо, — отказался Николай. — Берите с поводом.
— Ну ладно, — повеселел Филот. — В хозяйстве пригодится.
Корова неожиданно заупрямилась. Вырывая у Филота из рук повод, она забилась в угол, угрожающе изогнув шею, замычала.
— Ишь ты, не хочет, — глазами стал искать какую-либо хворостинку Филот.
— Кому охота из дому, — почти заплакала Соня. — Ты поласковей с ней, поласковей. Она к мужчине непривычна.
— Счас я, счас, — Филот решительно подступился к корове, захлестнул ей часть повода за морду и прикрикнул: — Пошла, пошла!
Корова покорилась, побрела из сарая, почти касаясь Филотового плеча лбом, низкорослая, старая любимая материна корова.
Филот привязал ее за лавочку и, немного повозившись с булавкою, достал из нагрудного кармана темной железнодорожной гимнастерки деньги. Считал он их долго, путая рубли и трешки, наконец передал Николаю:
— Пользуйся.
Остальные рублей пятьдесят он ловко засунул за голенище и подмигнул Соне:
— Маше моей скажешь, что семьсот.
— Ох, Филот Ильич, — покачала головой Соня.
— Что Филот?! У меня свои расходы могут быть?..
— Оно конечно. Но ведь не сам живешь.
— Ну, заладила, — Филот отвязал корову и повел ее со двора. — Да не пропью я их, не пропью! Для дела.
— Дай-то бог, — вздохнула Соня.
Она проводила Филота до калитки, потом вернулась назад и стала научать Николая:
— Ты деньги эти на памятник потрать. Теперь все каменные ставят.
— Хорошо, — пообещал было Николай, но минуту спустя протянул деньги Соне. — Памятник я за свои поставлю. А эти пусть на поминки.
— Многовато, Коля.
— А вы сделайте все, как полагается, в девять дней, в шесть недель, в год.
— Сделаем, конечно. Отходную еще надо в церковь отнести, там тоже заплатить придется, хотя и немного. — Соня завернула деньги в платочек и повязала его на руке, чуть выше запястья.
Николаю стало легче от того, что он отдал ей эти неожиданные горестные деньги, которые, оставь при себе, не придумаешь, куда и зачем тратить.
Соня прикрыла платочек рукавом фуфайки и заговорила опять:
— Мать застрахована была, я знаю. Ты бы остался на день-другой, получил.
— Потом как-нибудь, потом, — поспешно ответил Николай. Ему вдруг захотелось все бросить и сейчас же уйти, уехать отсюда. Пусть все идет прахом, разрушается! Какое ему дело до этого дома, двора, до этого огорода, земли, раз не смогли они сберечь матери, забрали все ее силы и предали, оставшись жить, немые, бессловесные. А ее нет! И он, Николай, тоже предал, бросил мать одну, уехал и, случалось, месяцами, занятый работой, семьей, не вспоминал о ней. А она помнила всегда и даже о смерти своей, в которую не верила, которой не ждала, позаботилась — застраховала жизнь, чтоб было на что похоронить, чтоб Николай не тратился, не отрывал денег от семьи.
Соня, почувствовав недобрую минуту, заторопилась:
— Ты ключ под ступеньку положи.
— Положу, — пообещал Николай и, чтоб больше не обижать, не расстраивать Соню, спросил: — Окна забивать или пускай так?
— Лучше забей, а то вдруг ребятишки камнем расшибут. Я, конечно, присматривать буду, но все-таки…
— Сейчас забью, — глянул на дом, на окна Николай.
Соня постояла еще рядом с ним самую малость и начала прощаться:
— Ну, до свидания, Коля. И не серчай на нас, если что не так.
— За что же серчать?
— Да за все. Не уберегли мы ее. — Она заплакала и пошла к себе домой, не через калитку, а огородами по сырой, еще как следует не просохшей земле.
Расставшись с Соней, Николай вошел в дом, закрыл дверь на крючок и присел возле стены, где когда-то висели часы с кукушкой. Во время побелки мать часы никогда не снимала, чтоб не нарушить, не сбить ход, и за долгие годы на стене явственно обозначилось их место: белый квадратик с одной удлиненной и обрезанной по уголкам стороной. Смотреть на него было немного странно: часов нет, а кажется, они есть, невидимые, тикают, отсчитывают время. Так вот и мать, нет ее, умерла, а поверить в это трудно, раз на месте все принадлежавшие ей вещи: висит на вешалке темная искристая шуба, стоит на столе телевизор, ждут ее рук ухваты, лежит на каменке самодельный мешочек с семенами цветов — значит, мать где-то здесь, надо только подождать, пока она придет, явится в дом…
Но она не приходила, не являлась, сколько Николай ни сидел, ни ждал ее, облокотившись рукой о старенький расшатанный стол. Солнце, перевалившись через хату, уже глядело в маленькое дворовое окошко, играло на побеленной с крахмалом глянцевой стене. Луговой разгонистый ветер, соперничая с ним, иногда ударялся в стекло, словно просился в дом, чтобы остаться в нем, опустевшем и заброшенном, навсегда…
Николаю пора было собираться в дорогу. Он пошел в кладовку за инструментами, чтоб забить окна, и неожиданно задержался там минут на десять. В кладовке, как и раньше, пахло сушеными яблоками, грибами, вареньем. Мать всегда заготавливала его несколько банок, а то и ведер, не для себя, конечно, а для Николая, Валентины и Сашки. Оно и сейчас стояло на полках вдоль стены: клубничное, вишневое, смородиновое. Николай с детства почему-то больше всего любил вишневое, и мать всегда старалась запастись им вдоволь. Если не случалось ей приезжать к Николаю, то она умудрялась присылать ему варенье в посылках. Запеленает литровую банку в вату, в полиэтиленовый мешок, и, глядишь, оно благополучно доедет вместе со связкой грибов, с куском-другим домашнего сала, с тыквенными семечками, с сушеными яблоками, грушами и сливами. Вообще мать за свою жизнь отправила Николаю, наверное, несколько сот посылок. В районе на почте ее уже хорошо знали и обслуживали без очереди, знали наизусть и Николаев адрес, вначале армейский, потом институтский, а потом уже и нынешний, домашний. Зимой матери с посылками было легче. Поставит она ящик на саночки — и через час уже в городе. А вот летом приходилось тащить его, десятикилограммовый, на плечах. Сил и здоровья эти ящики отобрали у нее немало…
Кроме варенья Николай обнаружил в кладовке еще много всяких припасов. Мешок ржаной муки (берегла для поросенка, которого летом, конечно же, завела бы), почти полные закрома проса и кукурузы, бочонок засоленного нетронутого сала, множество банок и кувшинов с приправами и снадобьями. Надо было сказать Соне, чтоб забрала все это себе домой или раздала соседям, а то ведь пропадет, испортится. Но, может, она сама как-нибудь додумается.
В самом углу кладовки стоял старинный сундук, по рассказам, бабкино приданое. В последние годы, приезжая на каникулы и в отпуск, Николай в него не заглядывал, не было в том надобности. Теперь же он решил открыть этот старый, изъеденный шашелем сундук, в который когда-то в детстве не раз залезал, играя в прятки. В те годы в сундуке хранились рядна, бабкина саржевая юбка, оставшийся от отца шерстяной костюм, толстая кипа зеленых, редко выигрывавших облигаций и на самом верху патефон с пластинками. Осторожно отставив патефон, Николай всегда ложился на рядна и тихонько лежал в полной, но совсем не страшной темноте. Лежать было мягко и удобно, в сундуке чуть пахло табаком, которым был пересыпан от моли отцовский костюм, и еще какой-то целебной травой, хранимой в маленьком узелочке. Несколько раз Николай засыпал в сундуке, и его находили там уже не ребята, а встревоженная, обеспокоенная мать.