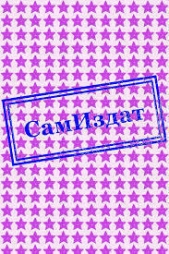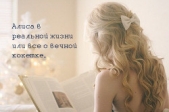Как ты ко мне добра
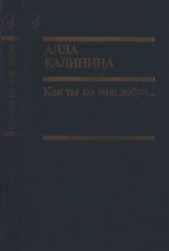
Как ты ко мне добра читать книгу онлайн
Роман Аллы Калининой «Как ты ко мне добра…» посвящен жизни советской интеллигенции на протяжении четырех десятилетий — с сороковых годов до наших дней. В нем рассматриваются вопросы становления личности, героев объединяет напряженный нравственный поиск.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было невыносимо, но молчание было еще хуже. И вдруг однажды Ирка не выдержала. Нахмуренная, сердитая, как ураган влетела она в комнату, хлопнула дверью, встала перед Ветой, сверкая глазами, сжимая нервные, очень красивые руки.
— Вета! Я так больше не могу! Я не могу смотреть, как ты мучаешься. Если ты можешь, если хочешь, давай поговорим…
— Ну конечно, хочу…
— О самом главном, Вета, иначе все это вообще ничего не стоит.
— А что самое главное? Наверное, ты думаешь, что я нуждаюсь в исповеди? Все совсем не так. Может быть, тебе в это трудно поверить, но, знаешь, он ведь меня тогда выгнал, я не сама ушла. Ну вот. Видишь, ты мне совсем не веришь, у тебя даже глаза стали зеленые…
— Как я могу в это верить, разве я не видела своими глазами! Он не то что любил тебя — он тебя боготворил…
— Именно — боготворил. А знаешь, Ира, это, оказывается, не так-то легко, когда тебя боготворят. Он, наверное, думал, что я какое-то неземное существо и со мной обращаться надо совсем по-особому. А мне ничего это было не нужно, понимаешь, я человек как человек, обыкновенный… Мне очень трудно было, как-то ничего не выходило. Ты не думай, что я оправдываюсь, я, конечно, виновата, я дома мало бывала, и он вообразил невесть что. А этого не было, не было совсем! Я не то что не изменила ему, у меня и мыслей таких не было. Я его любила, хотела любить. Его одного. А ничего не получалось. Я не знаю почему, сама не понимаю. А он любил, а думал обо мне гадости. Он просто с ума сходил, а я от него удирала. Вот в чем я виновата, только в этом и ни в чем больше, понимаешь?
— Конечно, понимаю. Я тебе верю, Вета, ты не думай. Но мне так его жалко, так за него страшно, что же он пережил в эти последние минуты, что он пережил…
Ирка плакала, слезы катились по ее лицу, струились широкими блестящими дорожками, а Вета смотрела на нее и думала: «Бедный Рома, бедный-бедный Рома, почему он был такой? Он был слишком хорош для меня, и для своей жестокой матери, и для всей этой страшной жизни…»
Почему, почему она не родила себе ребенка? Ведь ей тогда так хотелось, а он, Рома, даже не понял, не сумел понять. Еще бы, ведь ей, Вете, надо было заканчивать образование, он слишком любил ее, чтобы так перегрузить ее пустую, бессмысленную, ленивую жизнь, а сейчас уже ничего нельзя исправить. Она осталась одна, ни Ромы, ни следа от него.
Пришел сентябрь и закрутил свое золотое колесо. Первое, что сообщили Вете в институте, была новость про Горелика. Он завел себе новую подружку, маленькую пухлую жизнерадостную блондиночку в таких же больших, как у него, роговых очках.
Однажды в институте Вета нос к носу столкнулась с ним в коридоре. Он широко раскинул руки и не дал ей проскользнуть мимо, радостно сияя улыбкой.
— А вот и она, — сказал он, — вот и моя пропажа. Почему тебя так долго не было видно? Я пол-лета в Москве сидел.
— Так, — сказала Вета, стараясь не глядеть ему в глаза, как будто в чем-то была перед ним виновата.
— Что, обиделась? — Он подхватил ее под руку и потащил в сторону. — Напрасно. Ты же ко мне особенно не проявляла… У тебя там любовь, муж. Я думал, ты не хочешь…
— Ах, да перестаньте вы, как вам не стыдно! Ничего это меня не касается.
— Тебя вообще ничего не касается, — сказал он сухо. — А я кто такой для тебя? Так, забавный человечек, фигляр. Разве я не прав?
— Конечно, нет. Зачем вы так, Борис Захарович. Ничего я такого не думаю.
— Что же ты тогда думаешь? Ты, по-моему, вообще не понимаешь самого главного. Что люди — они вообще-то неповторимы. Вот ты любишь его, но даже он никогда не заменит меня, как я ни мал. Не сможет, понимаешь ты это? Нет, это ты потом, позже поймешь. Сейчас тебе кажется — всё впереди! Не всё. Все, кроме того, что прошло. Это моя новая, Галочка… Она славная, мне с ней легко, легче, чем с тобой. А ты, ты все-таки высокомерная девочка. Но и это ничего не меняет, все равно твое место вот тут, — он постучал себя по широкой груди, — и всегда здесь будет… Я к тебе привязался, да и больше сказать — я к тебе пылал! Ты ведь знала!
— Будете потом рассказывать про меня истории?
— Ну и буду! Дурочка ты, это же не только тебе принадлежит, мне — тоже. Думаешь, ты мне ничего не отдала, ни волоска? Нет, неправда, того, что было, никто у меня не отнимет, это мое. Ну-ну, чего ты, держи хвост морковкой, — он протянул руку, чтобы потрепать ее по щеке, и Вета дернулась в ужасе перед этим прикосновением, отпрянула, сверкая глазами. — Ну ладно, ладно, все. Не сердись. Я не знал, что ты так…
Он повернулся, и Вета вдруг поняла, почувствовала кожей, что ему, маленькому, старому, лысому, смешному, ему тоже больно, не только ей, и ей стало от этого легче. Хорошо, что ничего не вернулось, думала она, она словно отомстила ему за Рому. Но разве это он был перед ним — виноват?
Глава 23
Впервые в своей жизни Вета приучалась по утрам брать в руки газеты, впервые начала осознавать, что ее жизнь не единична, что вокруг нее что-то бурлит, меняется, происходит, и ее заботы — не единственные и даже не самые главные. В мире воевали, умирали от голода, выращивали в колбе человеческое существо, запускали спутник. Только сейчас Вета осознала, что вокруг нее идет большая и напряженная жизнь, происходит что-то гораздо более важное, чем она себе представляла, что-то менялось в жизни всей страны, и это касалось и ее тоже. Это не было «политикой», которая всегда вызывала в ней невыносимую скуку, чем-то мужским, надуманным, мешавшим углубиться в свои, интересные и важные, дела; это была жизнь, самое важное, самое страшное. Это касалось отца и его ранней, преждевременной смерти; это касалось его учителя, знаменитого когда-то академика Кузьмина. По городу ползли какие-то слухи, один удивительнее другого. И в них было не то что невозможное или новое, а просто непривычное. И то, о чем раньше не могли и думать, оказалось возможным, сказалось почти вслух.
Газеты сразу стали другими. Пробегая их утром глазами, Вета уже знала, что она ищет, читала между строк. И уже, к неудовольствию мамы, они схватывались за завтраком с Сергеем Степановичем и сердито отстаивали каждый свое мнение, и, как это ни странно, Ирка оказывалась и осведомленней, радикальней Веты. Но это Вету нисколько не раздражало, они были заодно, в одном лагере, а Сергей Степанович, соратник отца, ученик погибшего Кузьмина, он был против, он был за старые привычки, за то, чтобы в мире ничто не менялось. Вета, еще недавно такая равнодушная ко всему, что не было жизнью ее сердца, негодовала, возмущалась, а Ирка выкрикивала:
— Бойся равнодушных! Только с их молчаливого согласия…
Юлия Сергеевна, сердитая и красная, вскакивала из-за стола.
— Как вы разговариваете с Сергеем Степановичем! — кричала она. — Он заменил вам отца, он, в конце концов, содержит вас, так имейте хотя бы благодарность…
— Вета, ты проходила политэкономию? — вспыхивала Ирка. — В конце концов все упирается в деньги…
Вечерами они совещались, как быть. Ира весной заканчивала школу, а Вета все еще была на четвертом курсе. Когда же кончится этот проклятый институт? Тогда она уедет по распределению и заберет с собой Ирку. Вета будет работать, а Ира учиться, и им вдвоем будет хорошо.
— Наверное, он не такой уж плохой человек, — говорила Вета, — и маму любит. Конечно, мама права, мы элементарно ему обязаны. В конце концов за все надо платить.
— Даже если бы он был настоящий враг? Или, например, если бы это именно он донес на Кузьмина?
— Но ведь это не он. Просто он человек старой закалки, ему просто трудно перестроиться…
— Я понимаю, — вздыхала Ира, — папа тоже всегда говорил про терпимость, говорил-говорил — и не вытерпел…
Ира собиралась поступать в университет, на истфак, ее увлекала археология. Про историю они тоже говорили много и страстно; оказалось, что раньше чего-то самого главного они не понимали, и теперь история оказывалась совсем другой наукой, живой, близкой, понятной и такой злободневной, что уже было не разобрать, где история, а где политика.