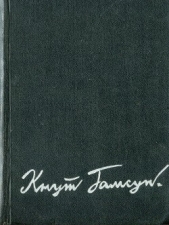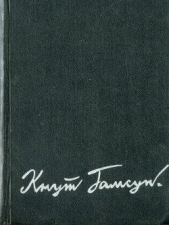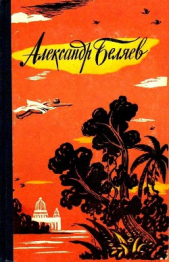Избранные произведения в трех томах. Том 3

Избранные произведения в трех томах. Том 3 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, невыстоявший, согнутый, не мог Степан и думать о встрече с Олей Величкиной, возвратясь в родной город. Оля жила для него в далеком прошлом — светлом и безвозвратном, в таком, которое только для воспоминаний, для печали в ночные часы, когда не спится,
И вдруг Оля вновь обрела плоть, и вновь пути их пересеклись, да еще и сплелись с путями родного брата. Немыслимо, невыносимо было думать об этом. И немыслимо, невыносимо было увидеть Олю такой, какой увидел он ее в тот вечер, — совсем не похожую на былую Олю Величкину. Ни одной знакомой черточки в лице — ни малейшей, ни чуточной, — все было чужое и некрасивое, как будто бы на фотокарточке, которую хранил он у себя долгие годы, была снята не эта женщина, а кто–то совсем–совсем другой.
Никого Степан ни в чем не винил, ни на кого зла он не имел. Но работалось ему с того вечера все хуже и жилось трудней.
Надо было что–то делать. Надо было пойти, может быть, к Дмитрию и объясниться. Но лучше всего не к Дмитрию идти — при чем тут Дмитрий? Что он знает? А прямо к Оле, терять уже нечего, все потеряно, ей уже известно, конечно, какой он оказался герой.
Казалось бы, все уже ясно: надо идти к Оле и говорить с нею, а не с посредниками, не с третьими лицами, которые в таких делах всегда лишние. Но сил и решимости у Степана для этого все не хватало.
Так тянул бы, наверно, еще и еще, если бы не этот столбик с надписью: «п. Рыбацкий — 7 км».
Столбик остался позади уже давно, уже вдали светились огни города, когда Степан затормозил машину и стал разворачиваться на узкой зимней дороге. Обратно к развилке ехал не очень спеша. Обдумывал предстоящую нелегкую встречу. В том, что она непременно будет нелегкой, он не сомневался.
Нашел длинный барак и узкую дверь, в которую — он видел тогда ночью — вошла Оля, или, как ее называли теперь, Леля, отворил дверь, столкнулся в полутемном коридоре с какой–то толстухой, спросил, где квартирует Величкина. Толстуха довела его еще до одной двери, не постучав, распахнула ее, крикнула: «Величкина! К тебе. Кавалер». Степан переступил порог плохо освещенной комнаты и в ней увидел шесть солдатских коек. На всех койках лежали — кто спал, а кто читал, обратив страницы книг к лампочке под потолком. С одной из коек поднялась худая женщина, закутанная в платок, подошла, отшатнулась, но уже не вскрикнула, как в прошлый раз.
— Здравствуйте, — сказал Степан.
— Здравствуйте, — глухим голосом ответила Леля.
— Мне очень надо с вами поговорить.
Леля надела подшитые валенки, старый ватник, от которого пахло рыбой. Вышли на улицу, взобрались в кабину грузовика. Степан сказал:
— Я мотор включу. Пусть работает на малых. А то озябнем.
Мотор заработал, рокота его было почти не слышно, только слегка подрагивала кабина.
После бесконечно долгого молчания Степан заговорил:
— Оля… Что же это такое, Оля?
Он отважился на эти слова лишь потому, что в кабине было темно.
— Что именно? — спросила Леля.
— Да все.
— Степан, — сказала Леля. — Что было, то прошло. Но что было, то было. Когда меня мучили в гестапо, я, знаете, о чем думала? Я думала, как бы сберечь вашу карточку. Вы ее мне в обмен на мою подарили. Тогда, в последний день. Забыли, что ли?
— Я ничего не забыл, — сказал Степан, зажигая свет в кабине, и полез рукой в карман куртки.
— Не знаю, сохранили вы ее или нет… — продолжала Леля, а он тем временем уже извлек свой протертый бумажник и под ожидающим Лелиным взглядом бережно вынул фотографию в целлофане.
Взглянув на свое изображение, Леля посидела минуту с закрытыми глазами, потом вернула карточку Степану. Степан положил ее на место, отправил бумажник в карман куртки и выключил свет.
— Ну вот, — сказала Леля, когда в кабине снова стало темно, — а я вашу не сохранила. — Голос ее дрожал. — Война отняла у меня все, даже этот квадратик картона. Все! И вы, пожалуйста, не сердитесь…
— А на что же мне сердиться?
— На то, что я вас не дождалась. Но я вам, Степан, такая и не нужна. Я никому такая не нужна. Ваш брат ведь меня не любил, я это знаю. Он просто жалел. От доброго сердца.
— Это неправда!
— Это правда. А вот если вы мне скажете, что у вас еще есть ко мне какие–то чувства, то действительно будет неправда. Карточка ничего не доказывает. На ней не я, а мое прошлое. Вы искали меня из–за прошлого. Верно же? Вот видите, и слов у вас не находится, да их и не надо. Для меня все было сказано без всяких слов в тот вечер. Вы не только меня не узнали, вас мой вид испугал. Не машите рукой. Я отлично научилась угадывать этот испуг у людей. Моего вида почти все пугаются, только одни это умеют скрыть, а другие нет. Вы — нет, не сумели скрыть,
— Оля…
— Да?
— Злая вы.
— Я? Нет, злая не я. Злая жизнь.
— Ну, а что с вами случилось? Почему это все так?
— Почему? Да потому, что меня приняли за подпольщицу. А я не была подпольщицей. Бьют — и требуют: сознавайся. А в чем же я сознаюсь? В гестапо был один бывший наш, советский. Он добивался, чтобы я назвала сообщников, чтобы сообщила, где скрывается Шумилов — секретарь горкома комсомола. А я, верно, видела раз его, Шумилова, случайно. Он через наш сад пробирался в сумерках к себе домой, к матери. Мы ведь рядом жили. Вы помните? Наш дом почти у самого берега, номер четырнадцать, а за садом — их дом, номер двенадцать. Ну вот, я могла бы сказать о Шумилове — немцы обещали, что, как только я дам какие–нибудь ценные сведения, меня мучить перестанут. Но я не сказала. Тогда через некоторое время они решили по–другому. Они хотели сделать из меня шпионку. Чтобы я перебиралась через линию фронта, ходила будто беженка по нашим войскам и собирала сведения о том, где какая часть стоит, сколько пушек, сколько солдат. Откровенно говоря, жалею, что не согласилась. Надо было согласиться, перейти фронт, прийти к нашим и все сказать. Но мне показалось, что так делать стыдно. Я сказала: «Нет, советские люди Родине не изменяют…»
Если бы Оля могла увидеть в эту минуту лицо Степана… Но она его не видела, она продолжала:
«Ни отцы наши не изменяли, — говорю им, — ни мы не изменим. И наших детей будем учить этому, верности». — «Ваших детей? — сказали мне со смехом. — У тебя, например, детей не будет…»
Голос Олин оборвался. Она надолго замолчала. Степан не выдержал.
— Ну и что? Что дальше? — спросил он.
— Что? — как бы проснулась Леля. — Вот и нет их у меня. И не будет.
— Почему?
— Так… Там умеют калечить людей.
Степан сидел подавленный. Он приехал говорить с Лелей, выяснить что–то очень для него важное, он хотел узнать всю правду. Но кто мог предположить, что эта вся правда окажется такой жестокой? От этой правды было бесконечно стыдно перед Лелей, Леля никогда не хвалилась своим бесстрашием, жаждой подвигов и геройства. Когда он намекал на возможные сражения, на артиллерийские морские бои и торпедные удары, она говорила, что это, наверно, очень страшно, что она бы такого не выдержала, что она трусиха. О подвигах и геройстве твердил он. И что же?
— Почему–то я не умерла, — как бы размышляя вслух, сказала Леля. — Хотя никто меня особенно и не лечил. Встав на ноги, я даже порадовалась, что такая страшная, — в публичный дом по крайней мере не отправят. Много думала о вас, Степан, особенно когда наши уже наступали в Германии. Я была рабочей силой на одной фабричонке, жила за проволокой. Ждала — вот появитесь, порвете проволоку… А вы…
Степан, подавленный, молчал.
— Но я вас не виню, — сказала Леля. — Там трудно было выдержать. Понимаю.
Никаких слов не мог найти Степан.
— А как же теперь с Дмитрием–то? — только и смог он сказать в конце концов.
— О чем вы?
— Может, я помешал вам, в жизнь встрял, непрошеный?
— Не знаю, — ответила Леля. — Откуда я знаю? Я же сказала, что он от доброго сердца меня пригрел. Может, в сердце уже ничего и не осталось. Жалость — не любовь. Она быстрее проходит. До свиданья, — неожиданно закончила она, нажимая на дверцу кабины. — Я пойду.