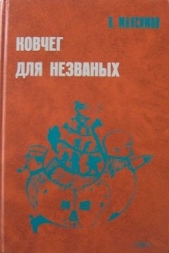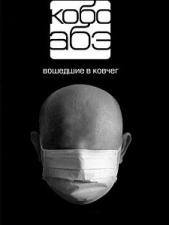Рассказы о двадцатом годе (сборник)

Рассказы о двадцатом годе (сборник) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Насчёт младенчиков — всё степенно, с достоинством, а только у стола брачного народа зряшного много: оно, конечно, что брак — одно любопытство. Другие, правда, которые в летах, придут степенно, в очередь встанут, за руку держатся, — Платон Платоныч, по делам брачным, человек серьёзный, хоть сам холостой, к женщинам презрительный отроду, — оглядит поверх очков, как гаркнет: — Которые в брак, занимайте черёд, — так сразу всё стихнет, в очередь станут. Те, что в летах, первыми подойдут, — Платон Платоныч невесту оглядит, спросит: — В брак согласны вступить? — невеста ресницами белыми заморгает, ответит: — Согласные, мы на всё согласные; — и распишутся.
У стола разводного народу мало: разве что придут для жилищного разводиться, чтобы на комнату лишнюю право иметь, — у стола же смертного — женщина чёрная, скорбная — ждёт: как жизнь человека мотает, и голодом морит, и холодом донимает, и тифом гуляет по просторам, — а лёг человек, с сыпью розоватой на лбу, с носом белым, бровью чёрной синеет, ноги бескрылые вытянул — для: плавания вечного, стал из плавающего и путешествующего во веки уплывшим, — и уж стоит у стола подруга птицей чёрною, ждёт…
Так с утра и до вечера пройдёт жизнь вся человеческая, — в 4 спешит Асикрит Асикритыч с портфеликом, и Платон Платоныч выйдет, серьёзный: в комнате его холостой бумажки нарезаны ровно, в порядке лежат, на бумажке каждой — когда декрет какой вышел: по обязанности секретарской домкома выписывает; вечером разложит, начнёт разбирать, чай попивает, — вечерок проскользнёт.
Асикрит Асикритыч опять на хребте между Европой и Азией дожидается: На рессорах мягких, в автобусе пылающем, спускается Европа. Пропустит её, вслед поглядит — пойдёт дальше шагать, Москву циркулем вымеривать — на Селезнёвскую. Только так засосёт вдруг от Европы огнедышащей, от макинтошей отличнейших, — не то чтобы в омнибусе этом самому проехать, а хоть на стоянке за стеклом посидеть европейцем, на Азию поглядеть: как спешит в шапках-уханках. Раньше в кинематографе под музыку все страны изъездишь, сквозь туннели проскочишь, — а теперь и осталось только: после чая морковного, по таблице сине-зелёной, разграфлённой, из Мексики прямо в Голландию. Королева Нидерландская, статная, дородная; в порту амстердамском пароходы стоят, мускус выгружают, корицу; голландцы все с трубками ходят; женщины в чепцах; рыбой пахнет; на рынке рыбы лежат синеватые, ртами ещё шевелят, жабрами розовыми пышут. Сыр голландский кругами лежит, ходишь себе из пристани в город, сосёшь трубку, башмаками деревянными постукиваешь. Из Амстердама на юг в Антверпен — уж в полночь: в полночь сразу сон тёплый, мглистый; дальше плывёшь из Антверпена в Гамбург, по морю Северному: пароход шведский, капитан бритый, волна сизая с отливом голубоватым.
Сосед слева от политэкономики совсем отощал, слёг, шинелью накрылся, глазами чёрными по стене водит. Стася пожалела, чай ему кипятила, старое одеяло поверх шинели накинула, комнату его вымела, окурки, газеты; штаны кожаные на гвоздик повесила, паутину смахнула. Вечером у постели села, сказала:
— Здоровым надо бисти… читать надо мало, на людей смотреть много…
И не то от заботы о человеке, не то от жизни своей безлюбой, — но только брови не свела мрачно, сидела у постели, как женщина простая, кудряшек не подвила, щёку кулачком подпёрла. Лежал тот темноглазый, скуластый, жизнью замученный, но тоже человек простой, сильный, мужчина крепкий. И так ли уж повелось испокон веков, или есть такая игра вековечная: но глядела та на него и жалостью полнилась, и глядел тот на неё — и не то что о политэкономии своей, а и вовсе обо всём забыл: смотрел, как шевелятся руки проворные, чай кипятят, подушку взбивают, — да вдруг руку эту забрал в свою большущую, к губам поднёс, да как забубнит прямо во весь голос: очень по ласке соскучился. Стася набубниться ему дала, сама в сторонку всплакнула — и сразу по-женски с вечера того свою жизнь повернула: как тот поднялся, оправился, ножницы принесла, вихры его сбившиеся состригла, бороду сбрить велела. Как бороду сбрил, сразу посветлел, мужчина оказался статный, жизнью только придавленный. Стася его к себе провела, насупротив посадила, складочки на коленях расправила, сказала:
— Ви один ести, и я один ести… вдвоем легчей бисти, — тот вдруг руку Стасину взял, в глаза её посмотрел, руку худую, в кольцах, всем о счастье гадавшую, никому не нужную — в своей сжал, губами коснулся. Стася стриженую его голову к себе прижала, всплакнула, — поднялась решительная; жизнь тяжёлую его облегчить решила, чтобы не сох над политэкономией.
Асикрит Асикритыч под праздник из отдела не спеша возвращался. Под весну с крыш капало, грязь была золотая, небо синее. Шёл, под очками глаза щурил, пальто зимнее, пыльное, на плечах тяжело нёс. На площади, под солнцем февральским, Европа огнедышащая — автобус красный стоял, вывеска висела сбоку. Асикрит Асикритыч глаз прищурил, подходил ближе — Европу вблизи оглядеть, видит: входит но ступенькам народ, на места рассаживается, а на вывеске обозначено: всякий гражданин может проехать, один конец — одна цена, полконца — половина. Асикрит Асикритыч очки снял, без очков прочёл, за грудь подержался, воздуху набрал, за ручки взялся. Никто прочь не гнал, — старик сказал сзади: — Поскорее, гражданин. — Внутрь влез, в креслице у окна опустился. Сидит, в стекло смотрит: спешит Азия, по делам своим торопится, — впереди позвонили, тронулась Европа, поплыла, покачиваясь, гудком народ сдувала, — за стеклом зеркальным Асикрит Асикритыч сидел, — правда, хоть и не в шляпе зелёной, не в макинтоше отличнейшем, — а и шуба пыльная на груди распахнулась по-европейски, европейцем сидит, в окно по-европейски поглядывает: и не к улице плывёт Каланчевской, а какой-нибудь Ольд-стрит в Чикаго иль Кэмбридже… Плывут назад улицы, бредёт народ, блеснёт купол пузатый. И так вдруг заходило сердце от мечты давней, исполненной, что и обратно через город шагал, башмаками: американскими, прочными лужи расплёскивал, из-под очков европейских город азиатский оглядывал, под усами стрижеными усмехался.
Вечером френчик сменил на куртку протёртую, — лёг в пижаме на постель, набил трубочку, табаком английским, крепким попыхивает. Дымок плыл, курчавился, — в дымку из Азии на пароходе океанийском «Королева Бразильская» плыл: в Рио-ла-Плата, в Буэнос-Айрес.
Утром, в десятом, на пересадке, прямо из Буэнос-Айреса в отдел по записям шагал: к речи иноплемённой прислушивался, зубы жёлтые, крепкие, американские, скалил, трубкой дымил. В отделе состояний гражданских ноги вытянул, облаком сизым окутался, на гражданку с щекой подвязанной прищурился, имя странное переспросил:
— А-гра-фэна?
Апрель 1922 года
Москва
Еврейское счастье
Небо овечье зимой шерсть сыплет: кудлатится, пухнет; весной — цветёт незабудкою. За небом пухлым, кудлатым, за небом незабудковым, лёгким — весну и лето, осень и зиму — великий Адонаи. Под небом, под семью этажами, под лестницей чёрною — Аарон Пинхус. Все дети равно угодны отцу своему, и Аарон Пинхус не менее любезен сердцу его, — но может ли великий уследить за всеми своими сынами — и что знает он об Аароне Пинхусе? Семьдесят семь лет уже славит Пинхус имя его, и тридцать два года живёт он под лестницей, под семью этажами, под инженерами, зубными врачами, под адвокатами, певцами, торговцами.
Ещё кудлатится небо зимнею хмурью, низко висит, цепляется обвислым животом за верхние этажи; ещё спят зубные врачи, и нежится певец под розовым одеялом, — начинает уже Пинхус свой день. Какие могут дела быть у нищего еврея, и что сулит ему день белесый, — но молится уже он у окна, с молитвенником бурым в руке, благодарит отца за жизнь долгую, за щедроты, за славу сияющую имени его. Каждый — на земном своём деле, и пусть спят ещё мирно зубные врачи, адвокаты, торговцы: в свой час заноет машина, высверливая иглой больной человеческий зуб, побежит адвокат с портфелем, заскулит у рояля певец в куртке холщёвой, и откроет торговец для посетителей дело своё. И пусть спешит теперь адвокат не во фраке на суд, и нет у торговца дела своего, — но так же торопится тот служить, с портфелем набитым, в положенный час, и так же лежат в запечатанных лавках товары, и так же болят у людей щербатые зубы.