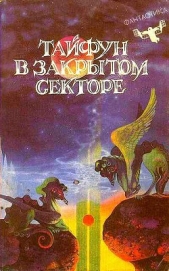Корова

Корова читать книгу онлайн
Беременная баба пасет беременную корову.
Они медленно передвигаются, объединенные одним хозяйством и одинаковым положением. Их вспученные животы сочетаются над зеленью луга, и они чувствуют себя, как трава, частью луга. Они растворяются в зеленой траве, и им кажется, что они зеленеют, как трава. Но вот женщина вспоминает, что у нее есть муж, мужу нужно сварить обед, а корову нельзя оставлять одну. И она грустит. Ее грусть передается корове. Но трава на лугу остается веселой, вода в речке веселой, деревья на берегу веселыми. Теперь ни корова, ни женщина не чувствуют себя частью луга, как вода частью реки. Корова жует траву с тем видом, с каким ее хозяйка пила бы чай в гостях у кулака. Она не жует, а только делает вид, что жует, и ей кажется, что она жует. С грустным видом они ходят по веселой траве, под веселым небом...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мне нужно писать письмо приятелям, — говорит он, — используйте это письмо.
И вот я передаю ему свое перо. Он берет мое перо. И пишет.
Как всегда, он делает два дела одновременно.
Он пишет письмо. Но это письмо, кроме того, и глава моего романа. «Забыли ли вы, как мы брали Омск и Колчак удирал с быстротою колес своего поезда? — пишет он. — Теперь, как вам известно, я в деревне», — и зачеркивает написанное. «В этой деревне, — пишет он снова, — не было ничего. То есть в этой деревне были кулаки, середняки, бедняки, но не было колхоза».
Я слежу за его пером, как за своим пером. Я стою за его спиной. Я жду. Вот он повернется ко мне, ища моей поддержки. И я скажу: «Здорово! Здорово! Так начать мог только я». Но он не обращает внимания на меня, точно меня не было, как не было еще этого колхоза. И он пишет дальше:
«Кулаки, середняки, бедняки и кулачки, середнячки, беднячки. В этой деревне всегда славились женщины, бабы энергичные, как женщины Гоголя, девушки не девушки, а костры, старухи не старухи, пожары! И в городе учли это обстоятельство, послали докладчика сделать женщинам доклад. Сагитировать женщин — значит уже организовать колхоз, потому что женщины сагитируют мужчин быстрее самого лучшего оратора. Послали оратора. И вот он приехал, держа портфель таким образом, что женщины увидели только портфель. Он начал, по всей вероятности, с международного положения, он начал в большой черной комнате, наполовину кухне, наполовину зале, представлявшей собой наполовину конференц–зал, наполовину ни то ни се.
Комната, наполовину кухня, наполовину спальня, была переполнена. Все женщины всех возрастов, не исключая девочек–пионерок всей деревни, собрались здесь. Старухи, сморщенные, как их лица, старухи и старушки в черном слушали всем своим сморщенным телом, сморщенными платками и платьями. И посреди старух сидели разноцветные женщины, энергичные бабы, решительные и готовые на все. Оратор говорил, сопровождая свою речь цифрами и движением руки. Но цифры были излишни, так же, как и движения его руки. Женщинам нужна была чистая речь, не загрязненная арифметикой, речь чистая и стремительная, как лозунг. Потому что женщины были в повышенном настроении. Они верили, не хотели никаких доказательств. Докладчик говорил наполовину о международном положении, наполовину так, вообще, и женщины слушали внимательно и шушукались между собой, потому что деревенские женщины, эти энергичные существа, не умеют слушать пассивно. Они слушают активно не только ушами, но глазами, руками, всем своим существом и, конечно, языком. Они шушукались между собой, то есть делились впечатлениями: «А Пилсудский–то, Пилсудский, он хуже нашего Петухова». И слушали, слушали. Но вот оратор подошел к основной теме. Он говорил о колхозе таким голосом и сопровождал свои слова такиим жестами, как говорят только о мировой революции. И он попал в точку. Кто знает деревенских женщин, тот ошибается, потому что он не знает их. Никто не знает деревенских баб. Потому что все уверены, что для бабы важно хозяйство, вот это молоко этой коровы, свиньи, телята, горшки и выгода, остальное для нее не существенно. Для этих женщин, для этих девушек и даже для этих старух задача пролетарского государства была в эти минуты важнее всего, потому что они хотели быть героями, и они были героями, вот эти бабы, вот эти девки и вот эти старухи. В эту минуту для них было выгодно только то, что выгодно революции. Они хотели быть настоящими революционерками, они могли быть ими, они уже почти ими были, стоило только оратору… Но об этом после…
Они слушали оратора, перешептываясь между собой, это было доказательством того, что они слушали с интересом, они слушали с энтузиазмом. Но оратор думал противное, потому что он плохо знал деревенских женщин. «Им не нравятся мои трескучие фразы, — подумал он, — нужно говорить конкретнее». И он стал говорить конкретнее. Он уже не говорил о задачах революции, о строительстве социализма в одной стране, о том, что вот от этих женщин зависит это строительство, и он стал говорить о выгоде. О выгоде коллективного хозяйства перед индивидуальным (единоличным), о количестве молока, которое будут давать улучшенные породы скота, о количестве и качестве масла, о том, что колхозы выгоднее всего женщинам, потому что там будут ясли, женщины будут избавлены от детей (избавлены!). Только там женщины уподобятся мужчинам, короче говоря, только в колхозе будет устранено в полном смысле биологическое (?) и общественное неравенство. И опять о выгоде, о масле, о свиньях, об общей кухне.
— Даже суп, — заявил оратор, — который вы будете варить в колхозе, будет вкуснее вашего индивидуального супа. — Он заявил это, очевидно, желая вызвать реакцию смеха. Но никто не засмеялся, никто не улыбнулся, никто не пошевелился. Теперь все слушали молча. «Как зачарованные», — подумал оратор. Но он ошибался. Просто–напросто конец доклада понравился им гораздо меньше, чем начало, и бабы слушали его без особого энтузиазма и не перешептываясь.
— Да здравствует коллективное хозяйство, колхоз! — закончил оратор, довольный собой и своим докладом.
И гром аплодисментов, который последовал за его последними словами, подтвердил его мысль, что дело начато хорошо. Бабы вступят в колхоз.
Ему хлопали сморщенные старушечьи ладони рядом с потрескавшимися от работы ладонями пожилых женщин, рядом с румяными руками девушек и молодух.
И оратор, я не помню его фамилию и потому называю просто оратор, товарищ оратор спросил у собравшихся, будут ли к нему вопросы. Сначала вопросов не было.
«Это плохо», — подумал оратор и сказал:
— Это плохо!
«Какой доклад без вопросов, — подумал он, — такой доклад не доклад».
— Такой доклад не доклад, — сказал он.
И вот несколько женщин, несколько молодух несколькими голосами спросили его хором:
— Есть ли у вас жена? — спросили они его.
Есть ли у него жена?
И оратор остался довольным заданным вопросом.
«Такие вопросы, — подумал он, — создают семейный характер в аудитории и потому содействуют сближению, связывают оратора с массой».
И он ответил:
— Есть.
Тогда бабы пошушукались между собой и спросили:
— А она вступит к нам в колхоз?
Оратор не обратил внимания, что этим вопросом бабы как бы давали свое согласие на организацию колхоза, он увидел только то, что бабы заинтересовались его персоной и спрашивают о жене, чтобы узнать о нем. Неудобно же спрашивать прямо о нем.
И он ответил гордо, выпятив портфель и живот:
— Моя жена не нуждается, — гордо ответил он, — я зарабатываю столько, чтобы ее прокормить.
Дурак!
Одной фразой было уничтожено все. Двумя–тремя словами был зачеркнут целый колхоз.
Все женщины, старухи, молодайки, девки, вскочили с места, как одна старуха, как одна молодайка, как одна девка. Все как одна. Над ними издевались. Насмеялись над лучшими их желаниями.
— Так значит, колхоз — это богадельня, — сказали они всем собранием, голосами всех, — значит, наши мужья и наши отцы не в состоянии прокормить нас.
— Вон, — сказали они затем и показали оратору на дверь. И оратор не заставил себя долго просить, схватив портфель, он был таков.
— Хорошо, что убрался, — сказали женщины, сказали старухи, сказали молодайки, сказали девки, — не то мы бы показали ему богадельню. Это нас–то в богадельню. Мы бы ему показали.
И вот результаты. Ни одна женщина не хотела и слушать о колхозе.
— Мы сами в состоянии прокормить себя, — говорили они, — если даже наши мужья будут не в состоянии прокормить нас.
Я делал все, что мог. Но записались одни мужчины. Я записал в колхоз свою сестру. Она приехала из города, она вышла на работу. И она шла — одна — среди сотен мужчин. Кроме нее, не было ни одной женщины. Немного позже вступили четыре девушки, четыре комсомолки, но никто не последовал их примеру. Даже жены батраков, даже жены партийцев ни за что не хотели идти к нам. Ни уговоры, ни обещания, ни прямая экономическая выгода, ничто не в состоянии было сагитировать их, чтобы они вступали в колхоз. Тем мужьям, партийцам и батракам, которые уговаривали своих жен, жены отвечали, что разойдутся с ними, но ни за что не вступят в колхоз. И многие расходились. Это было невиданное проявление небывалого самолюбия, оскорбленного самолюбия десятков и сотен, организованного самолюбия угнетенных и попрекаемых веками, это был поток самолюбия и энтузиазм сопротивления. Это было последствием одной неосторожной фразы, одной глупой фразы, сказанной неосторожным представителем города — им, женщинам деревни. Это было доказательством того, что слово, одно слово или несколько слов, фраза, сказанная неизвестным оратором, фраза обыкновенного человека, одна фраза сделала больше, чем усилия десятков кулаков, чем старания сотен колхозников, чем наши трудности и наши победы.