Города и годы
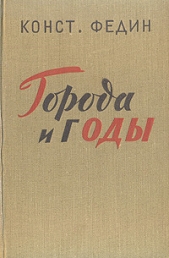
Города и годы читать книгу онлайн
Константин Федин. Города и годы. Роман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В столовую через тюлевые занавески неслось солнце, путалось в развернутых и раскиданных на столе газетных листах, рябило в плетенке стульев, играло на посуде и ножах, и черно-бело-красный бордюр горел в его блеске, как шелковая ленточка ордена.
Фрау Урбах намазывала на тонкий кружочек пумперникеля присланный из Швейцарии камамбер, разливала кофе и прищуренными глазами скользила по газетам. Она уже рассказала о том, как в лазарете, на концерте, устроенном для общественных благотворителей, безногие и безрукие с помощью отечественных техников и ортопедов блестяще опровергли распространенное заблуждение, будто бы человек, потерявший конечности, — калека, непригодный для работы. И о том, что выздоравливающие с воодушевлением пропели неувядаемой прелести прусский гимн — «Стража на Рейне», что, несомненно, доказывает как патриотичные чувства простого народа, так и его музыкальные способности.
— Кто-то очень верно сказал, что народ, умеющий так петь, не может быть народом варваров. Они спели прекрасно!
Герр Урбах пофыркал и заметил: [270]
— Я читал про каторжников. Их песни нельзя слушать без слез.
— Это написал какой-нибудь русский?
— Не помню, — ответил герр Урбах и посмотрел на дочь.
На этом прекратился разговор, и фрау Урбах занялась пумперникелем, камамбером и газетами.
Вдруг она пристально всмотрелась в маленькое объявление. Потом взяла газету и протянула ее через стол:
— Фрейлейн Мари, отчеркните, пожалуйста, карандашом вот это.
Мари прочла:
Герр Урбах кинул Мари карандаш. Она улыбнулась, отметила объявление крестиком, поднялась.
— Если вы собираете курьезы, мама, я могу вам помочь.
— Курьезы? Я не совсем понимаю, Мари.
Герр Урбах оторвал голову от газет.
— Что-нибудь любопытное?
— Ничего особенного. Мама хочет немного отдохнуть от героев.
— А, — произнес герр Урбах, — так, так.
— Я нахожу, фрейлейн Мари, что за послед-[271]нее время вам плохо удается подыскивать нужные слова.
— Я этого не чувствую, мама. Благодарю вас.
И опять книксен, после которого хочется хлопнуть дверью, броситься в постель и грызть подушку, как когда-то в пансионе мисс Рони.
В передней мягкий звонок. Скоро два года, как Мари прислушивается к звонкам. Она изучила их и знает особенно хорошо звонок по утрам, в обед и вечерами. Не мешает раньше других просмотреть почту. Ведь не всегда получаешь письма, которые можно не торопиться распечатать. Не всегда такие, над которыми долго думаешь. Или как вот это — широкое, без марок, сплошь замазанное штемпелями, печатями, надписями поверх отточенных иголок букв:
Ее высокородию
фрейлейн...
Отчего замерла улица и часы на стене перестали выбивать свои секунды? Проклятый книксен! От этого обезьяньего приседания кровь бросается в виски и жжет их, точно каленой сталью! И почему только перед матерью? Ни перед кем другим, никогда, только перед ней! Гадко, глупо, отвратительно! Надо запереть дверь, шире отворить окно, выкурить папироску спокойно и тихо. Как глупо! И в конце концов, не все ли равно? Ну, жив, ну и что же?
При чем здесь мисс Рони, при чем мать! Глупо!
27 апреля 1917 г. Россия.
И росчерк крутой и жирный, прочно подпирающий остроконечную решетку букв.
Иногда приходят иные письма, совсем иные...
— Мари, почему вы заперлись? Откройте!
— У меня болит голова, мама.
— Да? Я получила справку из Красного Креста. Маркграф находится в офицерском лагере... Посмотрите, я не могу разобрать этого нелепого слова!.. Вероятно, где-нибудь в Сибири. Однако... вы так жестоки?..
— У меня очень сильная головная боль.
— В самом деле, я вижу на этой полке целую кипу новых книг. Мне приходится повторять вам одно и то же несколько раз... может быть, вы все-таки напишете маркграфу? Вот вам справка.
Неслышно, как на экране кино, шелохнулось платье фрау Урбах, и, как на экране, она прикрыла за собою дверь.
Да, целая кипа новых книг. Это они — неизменные, таинственные — обкрадывают жизнь, и все говорят про них, что они обогащают ее. Но какое счастье чувствовать себя опустошенной их незрячим и недвижным взором! Как радостно отдавать им час за часом, день за днем, потому что — зачем человеку эти бедные дни и часы?
Ведь час, ради которого живет Мари, так редко приходит, и дни после него бессветлы, плоски и полы. Этот час наступает до газовых рожков, когда в каменных лазейках Бишофсберга с трудом отличишь мужчину от женщины.
Тогда Мари скользит по мутно-серым фасадам [274] старых домов, слепыми улицами, бегущими от ратуши черной пятерней к беззвучным променадам. Перебегая дороги, обходит оранжевые и молочно-голубые окна лавок и ресторанов, останавливается, смотрит в темноту, вдруг возвращается, прячется за дерево. Потом идет тихо, потом почти бежит, опять скользит по гладкой стене.
На площади Геркулеса, против фонтана, тяжелая дверь, изрытая барокканским ножом и годами.
В нее. Потом по лестнице — шестьдесят семь ступенек, если через одну — тридцать четыре шага. Если придешь точно в восемь вечера по часам ратуши, — приоткрытый вход на четвертой площадке. В него. Через переднюю, прямо. Там.

























