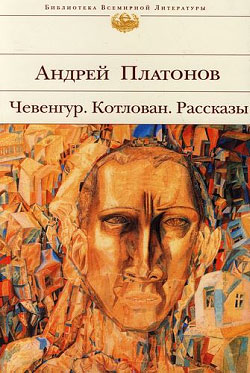Колымский котлован. Из записок гидростроителя

Колымский котлован. Из записок гидростроителя читать книгу онлайн
Большая трудовая жизнь автора нашла правдивое отражение в первой крупной его книге. В ней в художественной форме рассказывается о первопроходцах сибирской тайги, строителях линии электропередачи на Алдане, самой северной в нашей стране ГЭС — Колымской. Поэтично изображая трудовые будни людей, автор вместе с тем ставит злободневные вопросы организации труда, методов управления.
За книгу «Колымский котлован» Леонид Кокоулин удостоен премии Всесоюзного конкурса ВЦСПС и СП СССР на лучшее произведение художественной прозы о современном советском рабочем классе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Привет, Соня!
— А я вас еще издали узнала. Я вас каждый день жду.
— Вы очень изменились, впрочем, нет, что это я, вы такая же милая.
— Не смейтесь. Я устала вас ждать.
— И я скучал о вас. Зайдем? — кивнул я в сторону ресторана.
— Не надо, зачем тратиться, лучше в кино или так погулять. Это нехорошо, что я сама вас зову?
— Да нет, Соня. Идем, куда скажете.
— Знаете, я многое поняла. Может быть, я и раньше понимала. Люди, в сущности, так мало знают друг про друга, правда ведь?
— Вот вырастешь большая-пребольшая и все узнаешь.
— Как вы думаете, меня примут на работу без трудовой?
— Ну, конечно же, примут.
— Вы со мной только, пожалуйста, не сюсюкайте, говорите нормально, я хорошо вас слышу и понимаю. Но вот что, вдруг не смогу или не сумею или люди от меня отвернутся, так ли велик наш город, где тут спрячешься?
— Главное — твердо решить, и чтоб без отступлений, а люди поймут, хороших людей на свете ведь больше.
— Ну, что мы тут торчим? — я взял Соню под руку.
— Удобно ли вам? — сразу отстранилась она.
— Пустяки, мы есть мы, и не вешай нос!
На Большую, как в Иркутске называют главную улицу, вывалил народ сразу из трех кинотеатров, расположенных рядом и напротив. В нашем городе всегда так: когда идут из театров и кино, то по мостовой словно река течет, затопив всю улицу от домов до домов. И от шарканья ног образуется гололед.
Людской поток выносит нас до самого берега Ангары, тут он распадается на ручейки, а ручейки, словно струйки в песке, пропадают у домов. Здесь, на берегу, тихо, серая вода, мутные в тумане деревья. А с той стороны поросячий визг «маневрушки» — на том берегу вокзал.
— Летом здесь все по-другому, — говорит Соня, — в городе душно, а здесь приятно. Много лодок, бакены, как треугольники полосатые, правда, похожие? А как ваш немецкий?
— Ну его к шуту, заучился. Как-то пришли ребята в общежитие, меня спрашивают, а тетя Шура, уборщица наша, развела руками и говорит:
— Свихнулся парень, не по-нашему здороваться со мной стал!
Тетя Шура зимой и летом одним цветом: валенки, полушалок на лоб — только глаза видны, и тряпку из рук не выпускает, трет, чистит. А муж у нее — ну прямо каланча, ребятишки так и дразнят его — на лошади ездит по магазинам — продукты развозит. Умная коняга каждый вечер чуть тепленьким притаскивает его к общежитию. А тетя Шура от окна к окну бегает, просит: «Вы уж, мужики, поосторожнее с ним». А мы его, как жердь, волоком, надоел, да длинный уж очень, как иначе его. Слова от нее никто худого не слыхал, разденет его, в постель уложит. А тут как-то заглянул в их конуру, смотрю — тетя Шура сидит на кровати, а эта «каланча» по щекам ее. Не выдержал я, толкнул его. Как они оба на меня налетели, особливо тетя Шура, и откуда только прыть взялась, чуть глаза мне не выцарапала! «Паразит, кричит, ты эдакий, чуть мужика не изувечил! Кто тебя звал, без сопливых обойдемся. Не лезь, когда муж жену учит!» Вот и пойми их!
— Не надо мешать людям жить, — вздохнула Соня, — каждый по-своему, живет.
— И правильно. Сами разберутся.
— Вот у нас папа пришел с войны на одной ноге и без руки, но мама ему все равно поддавалась. Однажды, когда мама копала в огороде картошку, отец просыпал ведро и за это же пнул ее. Соседка не выдержала, перемахнула через плетень и ударила отца кулаком по спине.
Вскоре папа умер, мама плакала и всегда говорила: он умер от самолюбия. А соседку так до смерти и не простила. Мама у нас были добрая и работящая очень. А я вот ничего не умею, никакой специальности, разве что по дому…
— Научишься, не торопись. От работы кони дохнут, — глупо пошутил я, желая отвлечь Соню от тяжелых воспоминаний.
— А без работы люди гибнут, — вздохнула Соня и слизнула иней с ветки. — В детстве я мечтала стать артисткой. Когда мамы не было дома, доставала из сундука ее белое подвенечное платье, наряжалась и выступала, сценой мне служил тот же сундук. В войну мы все проели, но это платье мама сберегла. Мама много работала на заводе, иногда ее увозили в больницу, а была ли она хоть раз в отпуске — не помню, наверное, нет. Я бы тоже могла пойти на завод…
Соня втянула в пальтишко голову и по-детски хлюпнула носом.
— Знаете, как я себя представляю? Как на фото в журнале: комбинезончик на лямочках с кармашками, ботинки во-о-от на такой микропоре, из кармашка штангель поблескивает, косыночка.
— Неплохо, неплохо, эдакая ударница, да?
Я живо представил Соню, только уж слишком худенькая она, любой комбинезон перешивать придется.
— При заводе есть и школа рабочей молодежи… — И тут я заткнулся. Куда это меня повело, казенщина какая-то. Завод, школа. Разве все сразу ей перемолоть? Да и трудно это. Вот я позавчера опоздал на пол-урока и до звонка проторчал в коридоре. Сам по себе вывернулся вопрос: зачем хожу в школу. Ответ: хожу, и все.
Если уж честно — и никакой немецкий мне ни к чему, строить гидростанции в Германии я вовсе не собираюсь. Но другие же знают, чем же я хуже? А вот Витька Пономарев, тот ходит в школу для развлечения, не успевает по всем предметам, и ничего его не трогает. В школе ему просто кажется весело, ребята свои. Анатолий Белов не будет ходить, жена заставит ребенка нянчить. Яслей пока нет, вот Белов и едет на «тройке», мучается, изворачивается, а едет. А все же в школе мы крепко сдружились, да и отставать друг от друга неохота. Если день профилонишь, ходишь как потерянный, не хватает чего-то… Пропахший махрой класс. Мужики в гимнастерках, ордена спрятали, нашивки спороли, одни штампы да печати остались. Штатскими костюмами обзавестись не успели, да и не по карману, старое надо донашивать. Конечно, бывшие фронтовики — переростки в школе, гражданских мужиков тоже хватает, а между нами пацанва, как вьюны. Смешно!
Скажем, выйдет к доске Иван Романович и стоит, как мак, красный. Пот градом по загривку. Слуха у него никакого, в артиллерии и сейчас еще служит, правда, при штабе. И учитель слышит, и весь класс, а он нет, не слышит, как ни старается подсказать ему Галка. Валентин Иванович не выдержит: «Садитесь. Иди ты, Иванова». Галка тук-тук на каблучках. «Вы что, оглохли, садитесь!» — берет она из руки растерянного Ивана Романовича мел. Они сидят за одной партой, и Галка страшно переживает за Ивана Романовича. Прыгает около доски, не может стереть тряпкой неправильный ответ Ивана Романовича — не достает. Решение торопливо пишет внизу. Только мелок стук-стук.
— Правильно, — скажет Валентин Иванович, — садись, Иванова, — Галка сядет за парту и закроет щеки ладонями.
Или Танька Синьпаль — артистка, поет и в самодеятельности и в театре даже. Мы ее старостой избрали. Над Санькой Чувашкиным она просто издевается. Чувашкин длинный, как пожарная лестница, она тоже переросток, они вместе и сидят на задней парте. У нас все длинные и широкие на задних партах, чтобы не застили нормальным людям. У Чувашкина ноги под партой не вмещаются, он их в проходе оставляет, и лежат они, как трубы. Ох, этот Чувашкин! С третьего урока начинает свистеть носом. Как захрапит, Танька под бок его. Он откроет дикие глаза, спохватится, а она ему на доску кивает — вызывают, дескать. Он долго выпрастывается из-за парты — ждет подсказку, оправляет коротенькую гимнастерку под ремнем и марширует к доске. Круто поворачивается на каблуках и замирает. Глаза у него невидящие.
— Проснитесь, Чувашкин, проснитесь, — говорит преподавательница, — Чувашкин, проснитесь!
Всем смешно. Санька и сам смеется, а как только учительница отворачивается, он Таньке — пудовый кулак. В общем, все довольны.
Мы-то знаем, что учительница неравнодушна к Саньке, и Танька тоже знает.
С четвертого урока, бывало, убежим в кино на последний сеанс — билеты у Таньки уже куплены, хотя знаем, что послезавтра класс выстроят на линейку для «разгона», но никто не отстает. Иван Романович тоже с нами, хотя его на линейку не позовут — он полковник. Но он сам встанет рядом с Ивановой.