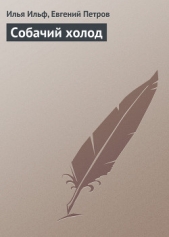Ладожский лед
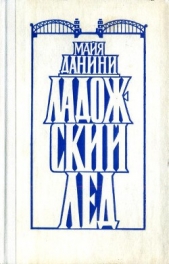
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хозяин Бека был вечно занят, да и Бек тоже. Не было для нас с Таней большей муки и более острого желания, чем каждый день заходить за Беком и просить прогуляться с ним, и каждый раз слышать неопределенные и уклончивые ответы.
Зато какое удовольствие было, если нам разрешали погулять с Беком. Мы шли с ним такие гордые, мы, так же как и он, не оглядывались ни на кого, только изредка кивая головой прохожим, которые спрашивали нас:
— Это овчарка?
— Служебная?
— А медали у нее есть?
Мы не знали, есть или нет медали у Бека, но кивали головой утвердительно. Вообще мы совершенно явно перенимали повадки Бека, глядели величественно и снисходительно на всех зевак.
Единственно, когда мы кривили душой, это когда нас спрашивали:
— Это ваша собака?
Мы делали легкий и неопределенный кивок, который все-таки звучал утвердительно, но мог бы сойти и за отрицательный. В самом деле, почему мы должны были объясняться с прохожими? Этого Бек никогда не делал, и мы — за ним. Наша собака, чужая ли? Не все ли равно этим зевакам. Не каждому все объяснишь. Ведь если говорить, что собака чужая, то надо пускаться в долгие рассуждения с посторонними, а Бек этого бы не делал, следовательно и мы не делали.
Кажется, не было на свете такой собаки, которую бы я не любила. Я помнила всех щенков и собак, которых видела и знала с детства. Самый первый щенок — Звонок, потом овчарка в доме деда, овчарка, которую боялись все, кроме меня, я могла в самом буквальном смысле ездить на ней верхом, кормить ее всякой чепухой — вплоть до зеленых стручков гороха, которые я засовывала ей прямо в пасть и удивлялась, что такой сладкий горошек она не желает есть — ведь ест же конфеты! Я лезла к ней в будку, даже могла отнимать кость — правда, обглоданную, — всегда просила дать мне миску с собачьей едой — молоком и геркулесом — и несла ее собаке, припасая с собой и ложку, чтобы, как я говорила, мешать, а на самом деле ела этой ложкой вместе с ней из одной миски.
За этим занятием меня однажды застали, и, боже, сколько было разговоров из-за этой трапезы, больше того — на всю жизнь осталось домашнее выражение: есть из собачьей миски. Если я к кому-то пристраивалась и просила дать мне что-то попробовать — это называлось есть из собачьей миски, если я что-то делала не то, что было нужно, это тоже называли собачьей миской, и так без конца и края.
После мне запомнился пес-дворняга по прозванию Букет, несчастный пес, которого кормили от случая к случаю, всегда держали на привязи и никак не реагировали, когда он долго лаял просто так, ни на что, лаял, потому что жаловался всем на свою несчастную судьбу. Этот пес был на даче, его я немножко боялась, кормила хлебом и пряниками и норовила отвязать его, как только не видели хозяева.
Как радовался Букет, Букашка, Букан, когда его спускали с цепи, как он носился по огороду, тряся ушами и высоко вскидывая лапы, как он набрасывался на своих спасителей, лизал им руки, благодаря всячески, но грозные хозяева сейчас же ловили его и снова сажали на цепь.
Однажды мы спустили Букана и дали ему кость. От восторга, что он на свободе, Букан не стал сразу есть кость, а закопал ее где-то, но тут же был посажен на цепь и не успел вырыть кость, она где-то была поблизости, но он не мог дотянуться до нее. Как он скулил, несчастный, как рвался с цепи, даже не заметил, что ему дали похлебку, опрокинул миску и, вытянув лапы, горестно заскулил, зарыдал, я не могла ему помочь отыскать его кость, и другой у меня не было.
Все собаки выражали свое возмущение и поддерживали Букана (удивительна собачья солидарность), они лаяли во всех концах деревни. Я знала их каждую по голосу — толстопузых белых братьев с хвостами, завитыми тугим кренделем, и мохнатую лайку соседа Васи, прозванную нашими Чао, и великолепных породистых овчарок, которых привезли из города дачники, и боксеров, и дворнягу Джульку, и дворнягу безымянную, прозванную нашими Общее Безобразие, — все были мне знакомы и теперь поддерживали Букана, который уже давно не скулил, а только укоризненно глядел на нас, положив голову на лапы и уткнув нос в ту сторону, где лежала злополучная кость.
Что было делать? Спускать Букета запрещалось строго-настрого.
Я и не пыталась. Букан, казалось, заснул, зато я долго не спала и думала, что будет время, я накормлю и утешу всех собак на свете, было бы мне чуть больше лет. И что же, много лет спустя я действительно однажды на даче кормила всех пришлых собак. Боже, что было, когда псы окрестных мест узнали, что есть место, где всегда можно получить сносную еду. Они сбегались толпами, грызлись между собой, лезли в окна, ночью делали набеги на веранду, где хранилась еда, сбивали крышки и рыча поглощали все, что им было по вкусу, — скоро мне отказала хозяйка, и я сама отказалась от мысли накормить всех собак, которые хотели есть.
Так кончилась моя бесславная попытка, но никак не кончилась моя любовь к собакам, наоборот, я всегда мечтала иметь собаку, какую угодно — дворнягу или породистую, маленькую или большую, но никогда не имела.
Глава пятнадцатая
ОСЕНЬ
Кажется, лет до двенадцати осень видела только в парке, и оставалось представление, что лето — всегда там, на даче. Осени я боялась — боялась зябкого, тоскливого чувства, которое наступало каждый раз, когда моросил дождь и свет пропадал совсем. Такая осень была похожа на тоскливое утро, когда надо было бежать в школу и точно знал, что тебя вызовут, а ты не выучил, и еще знал, что смертельно хочешь спать, что все равно ничего не вспомнить, так хочешь спать, что можешь спокойно уснуть под жужжанье учителя, тут, сидя в классе за партой, и проснуться только от толчка соседа, когда тебя вызывают и ты даже не слышал, о чем тебя спросили.
И все это вместе было осенью, темной и тяжкой порой, похожей на слова надо и ты должна, в то время как лето начиналось волшебными словами ты свободна, делай что хочешь и было похоже на эти волшебные слова, иногда перемежаясь с другими словами, вроде можешь же ты хоть чем-то помочь или пора и позаниматься, но эти слова летом звучали по-летнему легко, в то время как осенью они были нудными, как дождь, скучными, как дождь, а главное, не вызывали ни малейшего желания следовать им.
Но зато у осени были просветы, когда солнце вдруг ни с того ни с сего обрушивалось на землю как пожар и зажигало все деревья разом. Солнечные лучи были как молнии, деревья горели всеми цветами, и рассыпались листья-искры. Пахло так остро, так славно, что, казалось, ни весной, ни летом не слышал таких запахов, не знал, что все эти запахи существуют.
А в парках, по дорожкам, нельзя было пройти, все заваливали листья, и каждая ступенька Михайловского дворца превращалась в мягкое кресло, казалась пестрым диванчиком, на котором хотелось полежать.
Дорожки были уютны, особенно уютны с этими листьями, их мягкие, размытые края сливались с газонами, терялись совсем, и только маленькое углубление напоминало о том, что здесь дорога, аллея, по ней положено идти. Листья кружились в воздухе, падали на тебя, и там, на дорожке, под ногами, шуршали и шевелились как живые.
И лучше всего было осенью дома, когда вдруг замечал, что солнце, отраженное от желтого дерева, заставляет светиться все желтое в комнате, и на обоях вспыхивают золотые завитки, и на книгах светится золото, и даже на старой обивке кресел светятся нитки, а рамы картин так явно играют лучом, будто они в самом деле золотые.
В такие дни хотелось быть везде — и в парке, и дома, и в гостях. В такие дни мне хотелось, чтобы блестели и полы, и стекла, и ручка двери, и маленькие украшения на замках. Какой-то особенный, легкий восторг кружил голову, и особенная жажда деятельности обуревала меня, я кружилась в комнате и бежала звонить Тане, мы ехали в парк, сгорая от нетерпения скорее попасть туда, — а вдруг солнце исчезнет, зайдет и все сразу погаснет, все потускнеет. Но чудо — если солнце действительно пропадало, то не сразу исчезал этот красочный праздник, казалось, что листья все равно сохраняют солнце и оно играет. Они ловили всякий свет и превращали его в солнце.