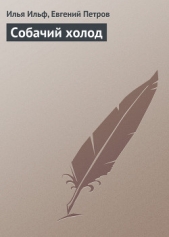Ладожский лед
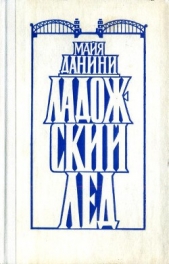
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ответа не слышал, уходил быстро, а я сердито кричала ему вслед:
— Верблюд в зоопарке! — хотя отлично знала, что он спрашивает про ботаника.
Однажды мне передали записку от него, он писал каллиграфическим, необыкновенно четким, четким до отвращения почерком: «Приходи после школы к «Рекорду». Пожалуйста».
Я пришла, и его несчастный вид смягчил меня.
Мы шли по улицам, и я понимала, что обрела человека, которым могу распоряжаться, как хочу, могу изложить ему все свои теории, блеснуть своей начитанностью и заставить его краснеть по всякому поводу и без повода.
Я сразу начала говорить ему все то, что не досказала братьям.
Я говорила и говорила, а Валя покорно слушал, наконец я выдохлась, и тогда он робко спросил:
— Ты не хочешь играть в нашем кружке Нину Арбенину?
Это было то самое, чего мне очень-очень недоставало. Я всю жизнь хотела играть на сцене, всю жизнь мечтала, чтобы меня пригласили так вот, как он, и от удовольствия сказала ему:
— А право, жаль безумного мальчишку…
— Что?
— Ничего, — сказала я многозначительно, — ниче-го!
Да, было жаль этого мальчика, этого тихоню, чье имя звучало плавно и слабо — Валя, Валентин. Звали его еще Валёна-Алёна. Так оно и было — именно Алёна, и он еще играл Звездича! Какой там Звездич, ему бы играть покорную Нину, способную всего один раз съездить в маскарад и тут же попасться, потерять браслет, быть уличенной и отравленной!
И началось разучивание роли, началось существование в «Маскараде», началось то, что, кажется, было всю жизнь, но никогда не воплощалось столь ярко.
Отныне по ночам я ходила в корсете, раздобытом где-то у бабушки в сундуках, отныне на простые вопросы, что я буду есть, я отвечала только:
— Зачем, я там мороженое ела…
К счастью, это понимали и даже не укоряли меня за то, что я будто бы ела мороженое. Говорили терпеливо:
— Налить суп?
Еще раз спрашиваю.
— Да, да, — говорила я. — Я все ж невинна перед богом!
— Лучше бы за обедом говорить с нами, чем с богом. Пожалуйста, спустись к нам, — говорил дед.
Братья хихикали.
Но им не было безразлично то, что я, одетая в ночную рубашку и корсет, стою часами перед зеркалом и читаю свой монолог, им не было безразлично то, что я завиваю свои волосы и распускаю их по вечерам. Они устроили такую уловку: провернули дырку в шкафу, где не было белья, держали шкаф открытым и подглядывали, как я там упражняюсь перед зеркалом. Им не было безразлично и то, что Валя ходит под моими окнами и провожает меня из школы. Мои отношения с ними очень испортились и стали натянутыми.
Близился новогодний бал, где должны были ставить «Маскарад». Волнений было столько, что уж и дед принимал участие в обсуждении того, как лучше мне умирать на сцене: реалистически или условно. Вопрос обсуждался долго, и пришли к выводу, что лучше условно.
Спектакль удался, бал тоже. Бал был похож на сплошное пятно света, на игру огней, на вихрь, который куда-то нес, заставлял бежать, что-то делать, говорить. Бал был прекрасен, и ты знал, что ты сам тоже хорош и весел, и оживлен, и говоришь все впопад и как надо. А потом была тихая ночь, та удивительно мягкая и снежная ночь, которая и со снегом бывает тепла и уютна, когда не замечаешь легкого морозца и тепло от бала все еще живо в тебе, ты все еще танцуешь, когда идешь по снегу в валенках с калошами, а кажется, что все еще летишь в атласных туфельках по паркету и твое платье касается пола, что все еще ты стянута корсетом и тебе в нем так стройно и весело, так взросло и гордо. Удивительное ощущение — платье до полу. Платье касается пола, волосы распущены по шелку, легкому шелку, и скользят по нему.
И рядом идет Валя-Звездич, который играл не так уж деревянно и плохо, подчинившись общему успеху, который произносил свое «ваш муж злодей» не так уж яростно, как делал это на репетициях, когда от смущения он говорил слишком тихо или кричал что было сил.
Да, рядом шел Валя, молчал и улыбался, а я говорила и говорила нисколько не язвительно, нисколько не сердито, как всегда, а легко и весело.
И вот мы останавливаемся возле калитки, стоим, прохаживаемся, опять стоим. Приближается Новый год, за окнами горят свечи, мелькают тени, там уже пахнет мандаринами и крымскими яблочками, там уже ждут к столу — удовольствия в этот вечер будут продолжаться всю ночь, там ждет примирение с братьями и, может быть, подарки. А Валя молча все вздыхает. Я не могу пригласить его к нам, но могу утешить его и вдруг говорю ему:
— Я люблю тебя…
Я знаю, что все это чистая ложь, что говорю это, может быть, для того, чтобы впервые произнести это, чтобы утешить его, и еще потому, что люблю сегодня себя, и всю эту прекрасную ночь, и бал, но я говорю это и вдруг в ответ слышу опять вздох, Валя кивает головой и говорит тихо:
— Я это знаю, — и опять вздыхает.
— То есть как знаешь! — Ярость вскипает во мне мгновенно. — Как это знаешь?
— Я это всегда знал!
— Что? Что ты знал? — Я же не могу сказать, что только что придумала это, чтобы услышать эти слова, которые он все равно никак не смог бы произнести.
— Я знаю, что ты меня не любишь.
— Что? — снова говорю я и начинаю хохотать, плясать вокруг него в своих валенках, открываю дверь и исчезаю.
Он услыхал то, что хотел услышать. Он не понял, что я сказала. Ну и пусть! Пусть. Я возвращаюсь к нему и кричу вслед:
— С Новым годом, слышишь ты? Я тебе не то сказала, ты не слышал! — но он уже далеко, хоть и возвращается.
Я уже дома.
— Кот, я люблю тебя, — говорю я коту, но он не поднимает головы.
— Эй, Витька, я люблю тебя! — говорю я брату, а он отвечает:
— Дура!
— Дед, я люблю тебя! — говорю я деду, а дед усмехается. Ему жаль слов, чтобы ответить мне, и только тетка Виктория обнимает меня и слышит мои слова. Она целует меня, дарит колечко, она даже плачет, когда я говорю ей, что я ее люблю, она слишком серьезно принимает мои слова.
Глава двенадцатая
ДЕД
Тот особенный стиль сдержанности и некоторой холодности был во всем доме, так что мои слова о любви повисали в воздухе, звучали несколько неприлично, в сущности их нельзя было произносить, разве что под Новый год, разве что в восторге от вечера, который был так хорош.
Сдержанность, сдержанность, размеренность всей жизни, необыкновенная работоспособность деда, уже совсем больного, накладывали свой отпечаток и на меня, я переставала читать свои монологи.
Братья ходили грести в клуб, и я стала ходить. Братья все еще играли в палача, судью и разбойника, и я играла в эту ужасную игру, вывезенную из эвакуации. Она заключалась в том, что раздавались бумажки со словами: «Разбойник», «Судья», «Палач», «Сыщик». Сыщик водил. Он должен был найти разбойника, судья присуждал ему казнь, и палач исполнял эту казнь. Обычно были удары по рукам, иногда братья варьировали наказания, придумывали что-то будничное и беззлобное. Они оба были очень беззлобны. Их выдумки куда как отличались от Надиных. Они просили меня, например, чистить их ботинки или сходить за билетами в кино.
«Кто был твой дед?» — спрашивали меня часто, и я отвечала: «Сварщик». Отвечала так, как принято было говорить дома про деда Сергея, брата моего родного деда, которого называли «металлургом». Хотя оба они были докторами наук, но этого никто никогда не говорил, и не то что я этого не знала, не то что не хотела говорить всем обязательно: «Он доктор наук, специалист по сварке кораблей» или: «Он доктор технических наук по технологии металлов», просто это было не принято говорить и говорилось, как было принято.
Сколько путаницы было после моих слов, потому что некоторые знали, что не просто сварщик, а многие так и понимали: сварщик — значит, сварщик. Дальше следовало, что я сочиняю, хотя ничего я не сочиняла, а просто говорила небрежно, говорила, как дома говорили, да еще и путала двух своих дедушек, и путала не нарочно, а совмещала их в одном лице и, собственно, знала только одного — деда Сергея, сварщика.