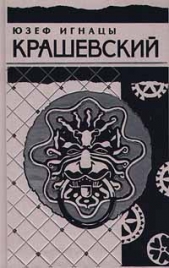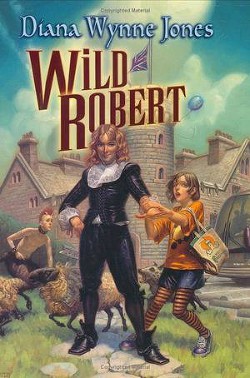Дикий селезень. Сиротская зима (повести)

Дикий селезень. Сиротская зима (повести) читать книгу онлайн
Владимир Вещунов родился в 1945 году. Окончил на Урале художественное училище и педагогический институт.
Работал маляром, художником-оформителем, учителем. Живет и трудится во Владивостоке. Печатается с 1980 года, произведения публиковались в литературно-художественных сборниках.
Кто не помнит, тот не живет — эта истина определяет содержание прозы Владимира Вещунова. Он достоверен в изображении сурового и вместе с тем доброго послевоенного детства, в раскрытии острых нравственных проблем семьи, сыновнего долга, ответственности человека перед будущим.
«Дикий селезень» — первая книга автора.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но еще долго, поперешничая один другому, выступали прокурорша в кителе, утыканном звездочками, и петушистый молоденький адвокат-говорун, который, как показалось старухе, переливал из пустого в порожнее. Из их перепалки старуха ничего не поняла. Однако она догадалась, что обвинительница продернула соседа как следует, а защитник откопал в нем такое, что в самый раз икону с Витаминовича рисовать, такой прямо добродетельный: хоть из-под стражи да прямо в рай. Попробуй разберись, кто ж на самом-то деле Витаминович.
Наконец, оставшись при своих интересах, прокурорша и защитник перестали препираться, и судьи ушли писать приговор.
Адвокат, перегнувшись через загородку, чему-то наставлял подзащитного, прямо-таки вдалбливал указательным пальцем в его лысую голову.
Старуха с пирожком терпеливо стояла сзади, ожидая, когда говорун закончит поучать Витаминовича. Учуяв позади себя жирный дешевый запах, защитник оглянулся и вытянул лицо, точно собирался чихать.
— Вам что, бабуля?
Старуха протянула адвокату пирожок в промасленной бумажной ленте:
— Передачку ему, соседу.
Конвойные, сидевшие до этого, дремотно развалясь, для порядку подтянулись, и один из них, пожилой старшина, коротко бросил: «Можно».
Защитник повернулся к подсудимому:
— Ну что же вы, берите, — и осекся.
Его подзащитный, уткнувшись лицом в угол ниши, беззвучно рыдал.
Из-за адвоката старуха Витаминовича не видела и обиделась на соседа за то, что уполз куда-то в темень и даже не показался.
Боясь запачкаться, защитник двумя пальцами взял пирожок и рассеянно забормотал:
— Спасибо, спасибо вам.
А потом старуха долго не могла прийти в себя. У нее никак не укладывалось в голове то, о чем сказал судья напоследок. По приговору выходило, что Витаминович отпетый мошенник и проходимец, каких свет не видывал. Уже не раз судился. И Ритка, такая молодая девка, оказалась его сожительницей. Господи, как земля такое паскудство терпит! Она вспомнила, как, разоблачая самозваного фронтовика-полковника, судья изменился в лице, посерел, словно ему не хватало воздуха. Здоровой рукой он убрал со стола недвижную руку и прикрыл ладонью орденские планки, точно опасался, что подсудимый может запачкать их своими грязными руками.
Старуха прожила нелегкую жизнь. Со всяким приходилось сталкиваться. Но такое… Да еще на старости лет. За что судьба прогневалась на нее? За что сбила с ног хворью и ударила кулачищем в сердце, подселив такого соседа? Светопреставление какое-то. Такому дай волю, весь белый свет с ног на голову поставит. Как же это она, старая развалюха, столь прожила, а не разглядела нечисть? Глаза распустила, уши развесила — и в жалельщицы, за людей нелюдей приняла. Оборотни, чисто оборотни…
И оттого что знала их, разговаривала с ними, старуха забоялась, что и она замаралась и стала на них похожа. И за сына ей стало страшно. Ведь его-то запросто могли взять в оборот. Уж больно он у нее мягкотелый. А Ирина молодец, сразу как отрезала: проходимец, мол, ваш Витаминыч — и все тут.
Старухе захотелось немедля отмыть себя от пакостного оборотневого духа, в котором они жили с сыном; очистить, освежить квартиру, и она, часто постукивая костыльком по тротуару, заспешила домой, мучась одним: говорить или не говорить Михаилу правду о соседях. Стыдно говорить. Скажет, что дали Витаминовичу три года и что Ритка испугалась, усвистала. Хотя, с другой стороны, сказать надо. Все как есть. Чтобы не знался с каждым встречным-поперечным, припахнул чуток душу-то. А то все нараспашку держит.
Бывшая жена Витаминыча, после развода с которой тот подселился к Забутиным, скорехонько обтяпала кому-то прописку и закупорила комнату.
Михаил купил раскладушку и после работы, собрав ее креслом, устраивался на ней читать. Боль, причиненная Ириной, не проходила. И забвение он искал в работе и книгах. Громский колесил с командой и подбадривал друга открытками, своего рода письменными упражнениями в острословии, навеличивая Михаила царевичем Несмеяном. В короткие свои приезды Костя пытался развеять его хандру, подбивал выпить пивка, сходить на матч с его участием, съездить с прелестницами подружками на природу. И всякий раз Михаил отшучивался: «Ну что ты, Гром, магнитное влияние солнца — больше ничего».
— Ишь, как все у тебя планетарно, — язвил Костя. — Знаю я твое солнце… Легко отделался: подпалялся чуток, а то бы всю жизнь в ожогах ходил. На твое солнце только пожарники из прынцев с белого парохода годятся.
И все-таки нет-нет да и вкрадывались во мглистые думы Михаила робкие огоньки утешения, вернее, самообмана: а может, ничего страшного не произошло и все поправимо. Но Костины ранящие слова насчет «прынцев» отпугивали эти вкрадчивые огоньки, и Михаил, стыдясь своей слабохарактерности, с издевкой говорил себе: «Плюнули в глаза — а тебе божья роса». Однако он все больше осознавал, что в Ирине как следует не разобрался.
Телевизор не показывал. Анна Федоровна, простоволосая, свесив ноги с кровати, подолгу, как бы в забытьи, смотрела и смотрела в ночное окно…
Отражения старого абажура в окне напоминали ей стога, уходящие в глубь ночи. Они светились изнутри, словно вобрали в себя жар солнечной косовицы, радостное тепло косарей. Но это были жуткие стога, навсегда брошенные людьми, сметавшими их. Светящиеся, как дорожные фонари, они пахнут на озябшую душу заблудшего путника теплом. И набредший на них, смертельно уставший от безлюдья и бездомности очеловечит их, будет разговаривать с ними, как с людьми, радуясь, что спасен от одиночества, от смерти. Но они не приведут к людям. Человеческие следы густо заросли травой. В какую сторону идти? А может, лучше остаться и ждать, когда за сеном приедут? Как же так? Есть ведь где-то рядом люди, есть! Но их все нет и нет…
Анна Федоровна чуть ли не плакала, переживая за воображаемого путника, обманутого стогами, которому, быть может, уже не суждено увидеть людей. Но в это время, на ночь глядя, соседка Васильевна наверху набирала воду. В водопроводных трубах хрипело, лаяло, мычало, словно слышалась близкая деревня. И Анне Федоровне уже казалось, что это она — путница, приблудшая к стогам, и что теперь-то она выйдет на звуки к людям.
Анна Федоровна тяжело поворачивалась и смотрела на сына. «Вот оно, мое спасение — сын. Он же и путником блуждал. Оно, конечно, на склоне лет с дочкой бы повеселее, помилее было бы. Это Таська не чтит никого — сама по себе. А так дочки привязчивее. Женщинам меж собой нашлось бы о чем посудачить. Да ведь дочке-то в матери поди такой нужды и не было бы. Та и обстирает себя, и поесть приготовит, и по хозяйству сама. Сыну мать нужнее. Пока жива, вроде и нет для него матери, вроде бы так и надо. А ежели умрет мать, что тогда? С Ириной у них что-то разладилось, вот и заточил себя в четырех стенах. Вразумлю-ка я Михаила. Конечно, если все у них образуется, самой туго придется: Ирине много внимания понадобится. Да я-то что…»
— Бедная девушка! — словно в своих мыслях, горько вздохнула Анна Федоровна.
Михаил встрепенулся и повернул голову к ней: он точно ждал, когда же скажет мать хоть слово об Ирине.
И уже обращаясь к сыну, Анна Федоровна с болью продолжала:
— Как она в больнице мучилась во сне! Война в ней криком кричит. Видать, отцовская память не дает ей покоя. Надорвется, сердешная. Тут доброе плечо под такую гору надобно. С бережью к Ире подходи, Миша. Хватит ли тебя на это? Вижу, маешься ты, вот и начала этот разговор. Без маеты твоей не начала бы. Какая мать сыну своему такое пожелает? Хватит терпения, Миша, — растрясется гора, свалится с плеч, тогда дороже вашего счастья и не найдется. Обо мне думай меньше всего. Я уж как-нибудь. Лишь бы у тебя все ладно было.
Потрясенный, Михаил долго молчал, затем глухо произнес:
— Спасибо, мам…
После разрыва с Михаилом Ирина внешне выглядела спокойной. Однако где-то в глубинах души, помимо ее воли затаилось ожидание. Ожидание его стука в дверь — он никогда не звонил — три коротких удара о дверной косяк.