Макушка лета
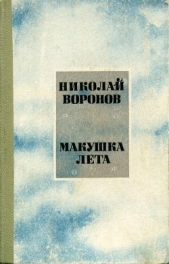
Макушка лета читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Наталья втолковывала... Вот что смущает, товарищ корреспондент. Она делит смену на моменты. Час с начала смены — момент врабатываемости. Пфу, слово-то какое: легче рыбью кость глотать. Полчаса после перерыва — снова этот момент. Я, грит, подбираю бравую, вроде того, музыку, чтоб сократить момент вра... Вы, мол, приходите к прессам, другой раз по-настоящему не проснувшись, без настроения: ребенок уросил, муж сердился... Работаете вяло, без охоты. Музыка бодрость придаст, взвеселит, дело станет спориться. Настроение что? Ускорение чувств. Космическому кораблю дают ускорение — ему кстати: на орбиту быстрей выскочит, в невесомость. Нас-то, живых людей, зачем ускорять? Натурально наши чувства должны развиваться. Музыка, выходит, как погонялка: хворостина или кнут. Кнут, хоть музыкальный, но он кнут.
— Тонкое соображение, Анна Полуэктовна. Такая опасность может таиться в музыке. Я передам ваше соображение Наталье. Поверьте, она исходит из соображений человечности.
— Легко доверяетесь, Инна Андреевна.
— Наследственная черта.
— Простофили мы: уши развесим, губы отклячим.
— Доверчивость, Анна Полуэктовна, лучше подозрительности.
— Эге, нет. Ко мне с подозрением, а я распахиваться должна? Меня обводят вокруг пальца, я осторожности не соблюдай? Фигушку!
— Мне?
— Вам-то с чего?
По лестнице спускался Ситчиков. Рымарева забеспокоилась. Ей хотелось улизнуть, но, вероятно, удерживала недосказанность.
Когда до нас с нею Ситчикову оставался только лестничный марш, она попросила не ссылаться на нее. Я кивнула, и она юркнула за дверь.
Ситчиков держал в руках наушники-противошумы, прикрепленные к пластинчатой дужке; из нагрудного кармана, который, казалось, был оттопырен пачкой сигарет, тянулись синие проводнички.
— Правдоискательница Рымарева, — сказал Ситчиков. В его голосе прочитывалось удовлетворение тем, что она правдоискательница. Однако я решила прозондировать, действительно ли он доброжелателен к правдоискательству Рымаревой.
— Сложился тип производственника, впрочем, довольно малочисленный... — сказала я. — Представитель из центра — надо ловить, довести до сведения, вразумить.
— Ничего плохого не нахожу. Покуда на местах будут твориться несправедливости, неизбежно будут и возникать Рымаревы и существовать. И прекрасно, что они существуют. У них чуткая реакция на унизительные для общества явления. Причем их нутро как бы специально ориентировано на восприятие негативного, бесправия и надругательства. Их, когда третируют, перво-наперво обвиняют в том, будто они не видят в жизни положительного. Видят и ценят, но они убеждены, что положительное естественно для социализма и нечего по этому поводу расшаркиваться, а к отрицательному при нашей социальной системе надо относиться нетерпимо, без компромиссов.
— Вы полностью это разделяете?
— Я не могу думать подобным образом потому, что моя социальная функция во многом отличается от социальной функции Рымаревой. Я — один из регуляторов духовно-экономической системы «Двигателя».
— Расшифруйте.
— Я хочу сказать, что моя социальная функция не исключает компромиссов, балансиров, что ли, рессор, воздушных подушек, громоотводов. Но самое характерное для меня: мое сознание, как направленная антенна, ориентировано на впитывание и продвижение положительного. В этом смысле Рымаревы и я находимся на разных полюсах, но мы в единстве, как и полюса магнита.
— Почему она боится вас, Виктор Васильевич? Заметила — и удирать.
— До обеденного перерыва полчаса.
— Не слишком ли просто открываете ларчик?
— Да, просто.
— Вникнем.
— Слишком часто мы ищем усложнение там, где его нет.
— Чаще мы выводим однозначные ответы там, где есть усложнение. Рымарева опасается, как бы администрация не показала ей кузькину мать за общение с п р е д с т а в и т е л ь н и ц е й.
— Кто-кто, а я не создан для преследования.
— Вы принадлежите к начальству.
— Я организатор, социолог, человеколюб. Начальником не чувствовал себя и чувствовать не буду. Курьез, странность? Пусть.
— Рымарева об этом не подозревает.
— Догадывалась бы — наверняка не поверила. Должен заметить: у Касьянова и у вас родственное отношение к этой проблеме. Касьянов, чтобы рабочие не опасались преследований и чтобы не стеснялись критиковать, велел установить специальный телефон. Рабочий снимает трубку, высказывает наболевшее. Его слова записывает магнитофон. Рабочий может назвать себя, может не называть.
— Отлично! Одним махом преодолевается дюжина психологических барьеров.
— Так-то оно так, но я сторонник взаимоотношений «организатор — подчиненный», ничем не закамуфлированных.
— Идеализированный подход. Вы должны чувствовать себя в состоянии триединства: организатор, администратор, социолог.
— На практике так и получается. Но я стараюсь избегать этого. Хватило бы ума и сил заниматься только заботой о людях.
Мы вернулись в цех. И опять я ощутила пагубу металлических хрустов, свистов, отсеканий, продавов, лязгов, чавканий. Было такое впечатление, что самые шипастые, кусливые, иглистые, шершавые звуки, пронизывая слух, достигают беззащитных глубин организма, потому и слишком опасны.
Ситчиков надел наушники, стоял, словно вслушиваясь и в себя и в заставленное прессами помещение.
На его лице просияло довольство, он снял наушники, подал мне, после выдернул из нагрудного карманчика черно-белую коробочку — самодельный транзистор.
Стальная дужка ловко охватила мою голову, наушники удобно приникли к ушам. Благодаря тому что производственные шумы остались за куполовидными конструкциями наушников, я мгновенно занырнула в собственное детство. Безмолвие, в котором очутилась, было подобно подводному безмолвию Невы: тишина, но откуда-то дотягиваются звоны, стуки, топоты, шелесты. Где и от чего они возникают — трудно установить. Наверно, так преобразуются, пробиваясь сквозь водную толщу, а сначала — сквозь землю, взрывные удары парового молота, стрекотание пневматических молотков, склепывающих железную обшивку землечерпалки. Дотягиваются и звуки, которые я угадываю, хотя они преломляются неузнаваемо: стрекот моторки, тарахтение катеров, бубнящие рокоты морских кораблей.
Наушники, как и вода, не глушили полностью жизнь звуков, к тому же в отличие от нее не преображали их, а лишь только усмиряли, связывали пронзительную, почти лучевую громкость.
Нажатием клавиша Ситчиков включил маленький, величины сигаретной пачки, транзисторный приемник и вручил его мне. Возникла умиротворяющая мелодия. Брунжал, стеклянно пересыпал такты, серебряно дышал электроорган. Гам металла еле проклевывался сквозь поле музыки.
Подошли к прессу Натальи. Она приветливо кивнула, продолжая работать.
Органная мелодия набирала разгон. Скрежет, издаваемый штампом, затерялся в ней, как воробьиное чириканье в колокольчиковом бое жаворонков.
Движением согнутого крючком пальца, занесенного над волосами, Ситчиков дал мне понять, чтобы я сняла наушники. Я поморщилась, не желая снимать, но он опять ковырнул в воздухе пальцем, и я сдернула с головы наушники.
Ситчиков достиг желаемого впечатления — я ощутила душераздирающую невыносимость цеховых шумов и на момент поддалась злорадству: кощунственно, мол, торжествовать, доказав печальную истину. Решила это высказать, но по-невинному ясный взор Ситчикова смягчил и облагоразумил меня. Никакого торжества в нем нет. Просто он на свежем примере лишний раз укрепился в том, как спасительно необходимо внедрение функциональной музыки.
Наталью нам пришлось ждать до обеденного перерыва. Самоисследование, по ее мысли, не допускает никаких отклонений от распорядка смены: должна и работать и отдыхать, как все штамповщицы, и, конечно, пытаться выполнять норму; последнее зачастую не удается, тем не менее ее не покидает уверенность, что в картине ее трудового дня зеркально отражается картина работ каждой из штамповщиц.
























