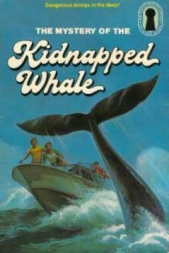Сешьте сердце кита

Сешьте сердце кита читать книгу онлайн
Леонид Михайлович Пасенюк родился в 1926 году селе Великая Цвиля Городницкого района Житомирской области.
В 1941 году окончил школу-семилетку, и больше ему учиться не пришлось: началась война.
Подростком ушел добровольно на фронт. Принимал участие в битве на Волге. Был стрелком, ручным пулеметчиком, минером, сапером, военным строителем, работал в штабах и политотделах войсковых соединений.
В последующие годы работал токарем на Волгоградском тракторном заводе, ходил матросом-рыбаком на Черном и Азовском морях, копал землю на строительстве нефтеочистительных каналов в Баку, в качестве разнорабочего и бетонщика строил Краснодарскую ТЭЦ. Первый рассказ Л. Пасенюка был напечатан в 1951 году. Первая книга — «В нашем море» — вышла в 1954 году в Краснодаре. Став писателем-профессионалом, он много путешествует. Ходил с геологами — искателями алмазов по тайге Северной Якутии, много раз бывал на Камчатке, ездил на Командорские острова, совершил на маленькой шхуне «Геолог» трудное и увлекательное путешествие по Курильским островам. В результате поездок по стране им написаны книги «В нашем море», «Цветные паруса», «Анна Пересвет», «Хозяйка Медвежьей речки», «Отряд ищет алмазы», «Нитка жемчуга», «Семь спичек», «Перламутровая раковина», «Лёд и пламень», «Иду по Огненному кольцу». В журнале «Москва» в 1963 году опубликован роман Л. Пасенюка «Спеши опалить крылья» — о вулканологах Камчатки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И как не засмотреться вон хотя бы на ту, сероглазую, на ее набрякшие неперебродившим соком губы! По-восточному зауженное лицо ее почти плакатно оттенял белый плащик с зябко поднятым воротником — на улице дождь, на улице хлынул дождь!
Он никому не страшен сейчас, дождь, в этой теплой, надежно сработанной столовой.
А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке, — а свитер у нее черный, а брючки тоже черные, и в тон льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке (были бы на «шпильке», но «шпилька» тут не годится), — есть в ней что-то змеино-гибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать. И рядом с ней вульгарно накрашенная толстуха с волосами, забранными в частые овечьи кудерьки, — и обе они, та царица по осанке и эта кустодиевская не то купчиха, не то попадья, — обе они стоят на резке сайры где-то у черта на куличках, не в Москве и не в Казани, нет, у края света, где трясут по ночам землетрясения, бьет в берега злющая волна, сыплются удушливой пылью туманы, льют серые дожди…
Я уже не стеснялся рассматривать девушек, а к тому же они ведь тоже не стеснялись смотреть на меня почти в упор.
— На вас смотрят, — сказала Соня, покраснев. Я почувствовал, что тоже краснею.
— Пусть. В первые дни меня это смущало, а сейчас я привык. Я-то ведь на них тоже смотрю.
— А вы не смотрите, — сказала она не то шутя, не то всерьез.
— Да нет, почему же, — возразил я. — Для того вы и по земле ходите, чтобы вами любовались.
— Мы не только для этого по земле ходим. — Она помолчала. — Вы кого-нибудь из них знаете?
— Почти никого. Вот ту, видите, стройную, с этакой царственной осанкой, ее я встречал не раз, даже разговаривал с ней о чем-то, но имени не знаю.
— Мы зовем ее Ириной Скобцевой — очень похожа, правда? — а имени тоже не знаем. Кажется, она работает на резке.
У этой царицы (или «Ирины Скобцевой») была странная манера вести себя. Однажды она даже зашла в мужскую парикмахерскую и долго там сидела. А и спросила только у меня:
— У вас есть время?
Я ответил ей.
В другой раз покупал в магазине сыр, и она сказала:
— Этот сыр какой-то невкусный.
Сыр был что надо, он перезимовал, перемерз где-то на складе, в нем появилась острота рокфора, а цена снизилась.
— Что поделаешь, — ответил я. — Другого нет. Съедим.
На почте я писал телеграмму и, нечаянно качнув стол, извинился.
Она хмыкнула — это, вероятней всего, должно было означать следующее: скажи ты, какой образованный, еще и извиняется! Нашел где извиняться…
Я тогда решился посмотреть на нее внимательно — и она вдруг вся вспыхнула, взялась огнем, и даже светлые глаза взблеснули тревожно, отраженным пламенем. Наклонившись над бланком, она торопливо дописала малограмотной башкирке денежный перевод.
Мне стало обидно и больно вчуже, что такая чистая и пламенная красота снисходит до того, что задевает без повода случайного прохожего, зачем-то сидит в мужской парикмахерской, говорит незнакомому человеку какие-то необязательные слова. А ведь девушка знала цену своей красоте, иначе не нашла бы ей оправы хотя бы в виде простой, почти спортивного покроя, одежды, иначе не носила бы такой вызывающе немодной прически, такого льняного снопа, небрежно собранного на затылке.
Сейчас она пила маленькими, даже брезгливыми глотками апельсинового цвета кисель, и пальцы ее, сжимающие граненый стакан, были забинтованы: порезы, уколы — случаются на баночках острые закраины, на резке тоже не без этого…
Милая «Ирина Скобцева»!
Терпимость не универсальное снадобье ото всех бед, ото всех печалей, но если у женщины на руках такие бинты, если у женщины пальцы, задубевшие от едучей соли, с пергаментно сморщенной от холодной и горячей воды кожей, — терпимость в самый раз. Такой женщине лично я многое простил бы.
В предзакатные часы остров освещался иногда поразительно, от елей по сопкам опрокидывались задиристые, как рыболовные крючки, тени, но его облик все равно оставался приветливым, и отовсюду струилось тихое сияние, будто через витражи огромного храма. Только море сгущало синь свою, куталось в дымчато-перистые хлопья…
В предзакатные часы сопки дыбились ржавой жестью, будто брошенные в полыхающий малиновым жаром горн и уже накалившиеся — вот-вот начнут плавиться и течь. Где-то далеко среди моря все зримей к ночи утверждался Тятя этаким усталым владыкой, наконец отряхнувшим звонкую мишуру дневного парада. Теперь обнаружилось, как стар он, и сед, и костист, прорезались глубокие морщины рвов, начиненных ножевыми оползнями снега.
Сегодня было очень тихо вокруг. И из этой тишины внезапно донесся приглушенный стрекот, он все нарастал, будоражил, заставлял недоуменно вертеть головой.
Но навстречу мне и Соне шла только гордая такая девушка в красном с облегающим воротом свитере, в жесткой юбке. Похоже было, что стрекочет у нее что-то внутри, дает о себе знать какая-то хитрая заводная машинка. Но в одной руке она несла хлеб, а в другой… а в другой озорства ради зажала, наверное, цикаду, и стрекотала эта цикада безостановочно, так что просто поражало, откуда столько трескучей, самосотрясающейся энергии в ее тщедушном каркасе из сухожилий, в каркасе, почти лишенном плоти и крови.
Девушка была хороша и серьезна видом, и казалось, что она освобожденно вышла прямо из этого заката, как выходят из парной бани на свежий воздух. Ноздри ее настороженно и радостно трепетали, глаза искали что-то свое, недоступное чуждому и равнодушному взору, а цикада стрекотала и стрекотала. Хотя нужно заметить, что этот ее назойливый стрекот чуточку не подходил к красному свитеру, черной юбке и как бы невидящему взгляду девушки, но, может, это было уже не так важно.
Девушка с цикадой прошла, а мы долго еще стояли, глядя ей вслед, завороженные непривычностью ее вида и отчужденностью глаз.
— Смешная какая-то, — сказала Соня, пожимая плечами.
— Красивая, — сказал я. — Неужели и эта работает у вас на заводе?
— Не знаю. Наверно, Может, в другом цехе.
— Странная. Интересно жить, когда люди странные.
Соня суховато заметила:
— Если они сами не очень упиваются этой своей странностью. А то и работать некому будет.
Но Соня тоже ведь ни на кого не была похожа, тоже выглядела иной раз странной, хотя и не подозревала об этом! Может, и лучше, что не подозревала.
Над бухтой шмелями жужжали растревоженные радиолы. В одном углу какая-то истинно русская душа с потягом, так что сердце обрывалось, вела-выводила: «Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца. Никто не загородит дороги молодца!», а в другом, игриво частя, ей пошловато, но со знанием дела возражали: «Ах, зачем такая страсть? Ах, зачем красотку красть?»
Соня хохотала.
— Это ребята на рефрижераторах чудят. Я их знаю.
— Я их не знаю, но ребята, видно, юмористы, — пришлось мне согласиться. — С таким народом не заскучаешь.
Мы возвращались из клуба, где проходило шумное собрание в связи с тем, что завод в середине сентября уже выполнил годовой план выработки продукции. Директор сказал особо прочувствованные слова о студентах, самоотверженно, не жалея ни времени, ни сил, трудившихся на путине. Поэтому у Сони настроение было приподнятое — приятно, когда хвалят. А к тому же сегодня впервые за всю путину объявили выходной день — точнее даже, выходной вечер. Благо не поступала рыба. В клубе накурили, сгустилась над головами перхучая облачность, протуберанцами разгорался и опадал накал лампочек, волосы вставали дыбом — студенты пели со сцены про бухенвальдский набат… А потом некая фифа из местной самодеятельности почти вслед набату завела скрипучим голоском о том, что «…в высоких стенах общежитья я горе свое изолью». Черное ее платье было оторочено презренным заячьим мехом, и она потела от этого зайца и от этой песни, в которой решила излить свое «горе», и неприятно было видеть на сцене такую упитанную после траурно-трубных слов о Бухенвальде.