Кончина
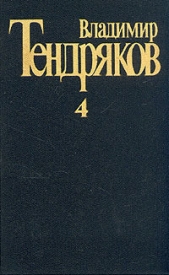
Кончина читать книгу онлайн
Умирает председатель колхоза села "Пожары" Евлампий Лыков. На протяжении последних тридцати летон руководил колхозом и отличался суровым нравом. Народ постепенно собирается у дома самого уважаемого и почитаемого местного жителя. Томясь в ожидании новостей, люди разговаривают друг с другом и вспоминают все то, что совершил в своей жизни Лыков. Постепенно вырисовывается картина не такого уж и идеального председателя. Обладая неограниченной властью, Евлампий редко слушал мнения других, а часто его решения приносили серьезный вред людям..
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером обо всем договорились, а утром явился участковый Ступнин, в ремнях, при пистолете, с портфелем, с красным от избытка крови лицом и бодрый, как всегда.
— Дома застал. Тэ-эк!
Сел за стол, не снимая милицейской фуражки, положил перед собой портфель, потребовал:
— Паспорт сюда!
— Это зачем?
— Значит, надо. Я у любого гражданина в любое время любой документ, удостоверяющий личность, потребовать могу, И отказать не смей!
Сергей достал паспорт. Ступнип покрутил его перед собой, признался:
— Кто его знает, зачем он… Из районного отделения потребовали. Ты уж сам с ними объясняйся.
— Евлампий новую петлю плетет.
— Мое дело сторона. Прикажут арестовать — арестую, прикажут расцеловать — расцелую. Служба!
Ступнин сунул паспорт в портфель и ушел.
В районном отделении милиции отказались вернуть паспорт: «Распоясался, руки распускаешь, еще выкинешь новое коленце да сбежишь. Вроде и не велик преступник, чтоб розыск по всей стране устраивать, но упускать из виду тебя не след. Нам проще — документы попридержать. Живи да помни себя».
Это значило — ты теперь принадлежишь Евлампию Лыкову с потрохами, уехать без его на то воли и не мечтай.
Даже тетка Груня советовала:
— Сходил бы поклонился, голова-то не отвалится.
Но хоть и посылала Груня кланяться Сергея, чтоб отпустил Евлампий Никитич, но своей радости не скрывала, когда Ксюша переехала в Петраковскую:
— Вспомнил обо мне господь, милость за милостью посылает на старости лет. Горемыкой жила, как перст одна, могла ли гадать — на-тка, семья под боком, глядишь, скоро внука качать буду.
Наняли старика переложить печь, Ксюша и Груня выворотили грязь из нежилой половины, Сергей расшил заколоченные окна. И одна изба прозрела в Петраковской.
В Петраковской прозрела, а в Пожарах ослепла. Приемный сын остаревшего Михаилы Чередника, ушедшего с бригадирства, Мишка-матросик, отслужив свое во флоте, забрал мать с отчимом, забил окна досками. А дом-то стоял в самом центре лыковской столицы, напротив конторы. До сих пор село Пожары глядело на белый свет только полными окнами.
В горнице старой Груни, рядом с фотографией Веньки — сына, появилась фотография Сергея и Ксюши, голова к голове, как и положено молодоженам.
Доволен был и Терентий Шаблов, шутка ли — Сергей остается в помощниках, да за таким помощником как за каменной стеной — в метель не продует. Он чуть не каждый вечер заглядывал в гости, охотно ругал своего родственника Леху, поеживался и помалкивал, когда отзывались нелестно о Евлампии Никитиче, пил чаек. Водкой Сергей перестал угощать.
Все вроде устроено. Ну, положим, далеко не все. Раз стал хозяином, то знай — ты дойная коровушка, свое гнездо тебя сосет, сыто не бывает. Надо бы и крышу перекрыть, и старые, еще довоенные, газеты по стенам обоями заклеить, пол перебрать не худо бы… Но это потом, а жить вполне уже можно.
Раз можно, то надо жить, и всерьез, не по птичьи — день прошел, да и ладно. Человек делом живет, по делам ценится.
Зрели на полях хлеба. Сергей и Ксюша не могли о них не заговорить, не вспомнить старое, как ходили по полям, как допрашивали с пристрастием: «А кто вы, Иваны, не помнящие родства? Кто ваши родители?» Дело-то оборвано, а зря, стоит продолжить.
Что им мешает снова взяться за отбор семян? Так и не выяснили до конца, какие сорта ржи самые урожайные по их местам. Евлампий Никитич мандат не выдаст на опытную работу… Евлампии Никитич замок повесил на дверь опытной станции. А нужен ли мандат и нужна ли сама станция с кабинетным столом, с канцелярским чернильным прибором, с полумягким диванчиком для посетителей? Есть время, есть уже кой-какие знания, найдутся книги, можно найти и консультантов. Есть и земля под боком, только пожелай — вся петраковская бригада станет опытным полем.
Одним ранним августовским утром, когда вся деревня Петраковская спала, ни одна труба над просевшими крышами еще не дымила, Сергей и Ксюша вышли из дому. У Сергея старая кепчонка натянута на глаза, пиджачишко с латаными локтями, резиновые сапоги, самодельные гербарные папки под мышкой. Непослушные волосы Ксюши туго стянуты выгоревшей косыночкой, лицо широкое, свежее, не остывшее от нагретой подушки, жарком прихвачены щеки, и глаза возбужденно прыгают по сторонам.
Спит деревня Петраковская, в седых предрассветных сумерках величаво вздымаются нескладные избы, темные, обветшавшие, но все еще могучие — бревенчатые мужицкие крепости, покорно отживающие свой век. А над ними в пепельном небе блеклое лезвие отточенного месяца. Деревня Петраковская — новая родина, общая для них обоих.
Они собрались на первую вылазку, нет, не на ближние поля, даже не на поля своей бригады — на засеянный рожью клин за Ветошкиным оврагом. А это исконно пожарская земля, сердцевина лыковской державы.
Евлампий Лыков считает: земля не смей рожать и хлеб не зрей без его указа — полный хозяин. Э-э нет, Евлампий Никитич, как ни державен ты, но придется признать — мы не меньшие хозяева, мы тобой обиженные, тобой униженные, тобой запертые в сирой Петраковской. Попробуй-ка запрети нам брать то, что дает земля, а брать будем не что-нибудь — самое ценное, оброненные в землю знания. Даже то, что ты сам обронил, — подымем и присвоим, попробуй-ка сказать — не смей! Не выгорит. Кто кого еще сильней, Евлампий Никитич? Кто — кого?..
Они шли лугом, скошенным, но уже вновь затянутым мягкой зеленью. Шли и озабоченно рассуждали о ржи: культура не в таком почете у селекционеров, как пшеница, но старое-то присловье справедливо — «ржаной хлебушко всем хлебам дедушко». Говорили о ржи и не вспоминали Евлампия Никитича.
Два темных росяных следа тянулись за ними по траве. Следы от околицы Петраковской в глубь лыковских владений.
Смерть
Евлампий Лыков лежит за стеной, пробил его час, не встанет, не наведет порядок, какой ему нужно. Он уходит, а жизнь, заквашенная им, продолжается.
Кричит с посиневшим лицом Ольга:
— Сво-од-ня! Съела ты меня-а! Кро-овь выпила!
Алька Студенкина ударила задом в дверь.
И Ольга сразу сникла, тихо заплакала, сморкаясь в конец платка:
— Жысть моя окаянная. Не дождусь, когда и кончится.
Чистых заботливо отвел ее к лавке, усадил.
Иван Иванович застучал костылями, вышел на середину комнаты:
— Позаботься о машине, да побыстрей….
Чистых косо натянул шапку, озабоченно оглядел плачущую Ольгу и вышел.
Сестра, стоявшая в дверях, вернулась к постели больного, к недовязанному носку.
Кладбищенское молчание снова окутало дом. Кладбищенское молчание, прерываемое легкими всхлипами Ольги.
«Черт бы побрал этого Чистых! Никак не выкарабкаешься». — Иван Иванович, косясь на сморкающуюся Ольгу, бочком двинулся к двери, — его подташнивало от спертого воздуха.
Но в это время Чистых вырос в дверях:
— Пожалуйста, Иван Иваныч. Машина тут.
— Слава богу, наконец-то.
Чистых почему-то не уступал прохода. Чистых глядел мимо вздернутого костылем плеча Ивана Ивановича.
— Что?..
Иван Иванович с усилием повернулся назад.
Сестра, распахнув свою дверь, стояла со строгим и значительным лицом.
— Что — уже?
Сестра важно кивнула:
— Минут десять назад… Пока тут…
Люди, толпившиеся перед домом Лыкова, давно разошлись восвояси. Вечерние сумерки прогнали и самых терпеливых, и самых любопытных. Не ушел лишь один — Леха Шаблов, выгнанный из лыковских покоев, преданно топчется у крыльца.
Улица села мирно светилась окнами, за каждым сейчас по-семейному сидят за самоварами, пьют, едят, укладывают спать детишек, беседуют о Лыкове. Еще никто не знает, что Лыкова уже нет на свете.
Пьяный ли воздух после тошнотворной духоты, или само известие о смерти так подействовало, но Иван Слегов, спускаясь с крыльца, сильней, чем когда-либо, почувствовал вдруг всю сырую грузность своего распухшего тела, еле-еле доковылял до машины, беспомощно обернулся:
























