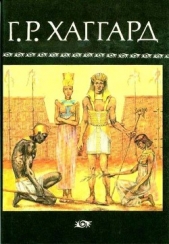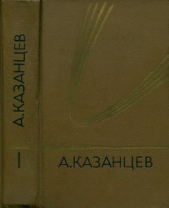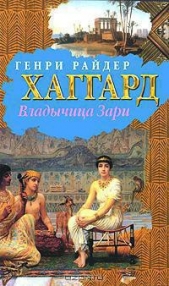Том 2. Брат океана. Живая вода

Том 2. Брат океана. Живая вода читать книгу онлайн
Во второй том вошли известные у нас и за рубежом романы «Брат океана» и «Живая вода», за последний из них автор был удостоен Государственной премии СССР.
В романе «Брат океана» — о покорении Енисея и строительстве порта Игарка — показаны те изменения, которые внесла в жизнь народов Севера Октябрьская революция.
В романе «Живая вода» — поэтично и достоверно писатель открывает перед нами современный облик Хакассии, историю и традиции края древних скотоводов и земледельцев, новь, творимую советскими людьми.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зашел как-то метеоролог Миша Конев подпаять хитроумный незнакомый приборчик. Дерди спросил, кто они, откуда.
— Мы — не откуда, а мы — куда. Дай-ка паяльник, я сам сделаю.
Конев был боек и на работу и на язык, быстро запаял что надо и за это время наговорил целую кучу:
— Там, на берегу, тыщи нас. Разберись, кто откуда. Знаем, всяк от какой-нибудь матушки. Ну и ладно. А вот куда — другое дело. В Игарку мы, в город Игарку.
— Где же такой город? — До перехода на оседлость Дерди немало объездил мест и городов, а такого не слыхивал.
— Нету пока. Будет. Недавно только выдумали. Строить едем, строить.
— И большой будет?
— Надо полагать. И нет еще, а какой шум-бам идет… У!.. Да ты сходи, погляди наш табор.
Вечером Дерди был в таборе строителей, ходил меж костров и палаток, прислушивался к песням, к гармошкам, иногда улавливал знакомые мотивы и думал, что хорошо бы поехать и ему, что ездил он не так уж много, закатал всего три брички и шесть скатов колес. Отец — девять бричек и двадцать скатов.
В пивной Дерди-Раду потребовал сразу десять кружек пива и калач колбасы. Ему намекнули: не много ли будет на одного?
— Много будет — коня приведу, допьет, доест.
Принесли. Кто-то сбегал, рассказал по улице и в конторе: «Ребятушки, цыган запьянствовал. Прямо ведром хлыщет сизый дьявол». В пивную набилось, как снопов на овине. Раду повел по толпе спокойным немигающим глазом, высмотрел и поманил деда Авдоню, старшего бригадира и пилостава у вятских пильщиков.
— Садись, пей!
Авдоня сел, пригладил ладошками седые спутанные космы.
— Знаешь, голуба… угошшать задумал — не скупись! Этто что… — отодвинул пиво. — Чаек — не чаек… сс… чок какой-то.
Раду заказал водки.
— Во-от… Таперь дерябнем. — Авдоня перекрестил рот, выпил чайный стакан и долго дышал в малиновую кубанку цыгана. Отдышавшись, сказал: — Толкуй, голуба!.. Надо быть, неспроста угошшаешь?
Долго толковать не пришлось, Раду только упомянул Игарку, тряхнул кафтаном да изобразил каблуками стук лошадиных копыт, и Авдоня все понял: нахлынуло на цыгана прежнее, цыганское. Не возьмут в Игарку — ускачет куда-нибудь на лошади, в бричке. Ничего не пощадит, продаст кафтан, сапоги, хоть голышом, а ускачет.
— Чао тебе посоветовать. Я, знаешь, глупой, вятской. Чао я против цыгана стою. Тебе половчей надо, ярославского. Во народ дошлый. По прежнему времю вся губерния зырянила. У цыгана хоть лошадь, тележка… А у ярославца сундучишка один, товару на три копейки, а сапожки лаковые, рубаха кумачная, баба в ситцах ходит, водку пьют, не дожидаясь праздника. У нас теленочек от короушки происходит, а у ярославца наоборот — короушка от теленочка.
Авдоня дерябнул второй стаканчик и крикнул:
— Кто ярославские, сказывайся!
На всю пивную оказался один.
— Вот те на!.. — удивился Авдоня. — Выходит, вятские ловчей ярославских. Нас тут десятка два, одна моя артель — дюжина. А ну, паря, иди к нам на беседушку!
Ярославец посоветовал Авдоне взять цыгана в свою артель.
— Не выйдет, в конторе не дураки, цыгана с вятским, жука с молью не перепутают.
Авдоня начал выкликать тверских, московских, вологодских. Выпили и пиво и водку, съели всю колбасу, а ничего дельного не придумали. Не берут — значит, не уедет, на пароход пойдем по списку, по пропуску. Вдруг Авдоня хлопнул себя по лбу.
— Эх, дурак, дурак! Праведно сказано: «Моль слепая, вятская». Я ее, блоху-то, и по лугам, и в лесу искал, а она, лешачья, в бороде у меня пасешша. Пойдем, цыган! До свиданья, ребятушки!
Шли к баржам запущенным берегом реки, через промытые вешней водой канавы, через груды старых якорных цепей. Охмелевший Авдоня лез прямо в канавы, на цепи. Раду подхватывал его под мышки и переносил, как маленького. Тогда Авдоня начинал бурчать:
— Погоди, постой, голуба, н-не падай… Я ее, блоху- то… а она в бороде у меня пасешша… На барках-то — земляк у меня, шкипер. А барки туда грузят. Шкипер-то, слышь, земляк мой, вятской… Оборотистой мужик. Он тебя научит минтом. Да погоди, постой, голуба, н-пе падай!..
Через два дня Раду стоял на барже «Светлана» матросом, цыганка гремела на кухне алюминиевой посудой, цыганята играли среди ящиков и бочек в прятки. Тупорылая «Светлана» шла в хвосте плывущего в Игарку каравана. Ее немножко покачивало, что-то, где-то поскрипывало и позванивало, взбудораженная пароходом вода казалась Раду некошеной зеленой степью, когда по ней пробегает ветер, а все вместе напоминало езду на бричке, где тоже качает и всегда что-нибудь звенит и поскрипывает.
Василий развернул знакомый цыгану список. Там было еще много свободного места, на каждой странице сбоку по широкому белому полю, но Василий записал Раду между строчек, в штат слесарно-механической мастерской.
Сперва Раду делал нехитрое — гнул трубы для железных печек, развинчивал станки, моторы, потом начал собирать и свинчивать, а со временем научился исправлять подносившиеся части и делать новые. Он угадал: в городе оказалось много и лудильной работы, ежедневно приносили что-нибудь. Раду, не отрываясь от главного дела, показывал фиолетовым глазом в угол: поставь! А когда спрашивали, долго ли простоит, он начинал перечислять, что вперед пойдут лесопильные рамы, за ними лесовозы, а потом уже котлы и кастрюли.
— Умрешь, ждамши.
— Зачем умирать… Скоро подрастет у меня сын Володька и полудит. Ему уже четыре года, — говорил, смеясь, Раду. Но работу делал быстро, больше двух-трех дней не задерживал.
IX
Метеоролог Миша Конев оказался из одного с Василием городка, учился в тех же монастырских стенах. Есть люди, про которых говорят: «У него все играет». Это не значит, что они красивы или особенно ловки, сильны, подвижны. Главное у них — другое: в каждом жесте, во всяком слове и взгляде — радость. Идет, говорит, смеется — и все это будто в первый раз. Вот из таких был и Миша Конев, невысокий, сухощавый, курносый и веснушчатый паренек с реденькими красноватыми волосами. Ходил он, как танцевал, легко, красиво, немножко покачивая плечами, голову всегда держал откинутой назад, глядел на все пристально, брал все крепко, не знал ни осторожности, ни страха, как не обжегшийся еще младенец.
И у него было немало воспоминаний, связанных с монастырем. Первое — вдруг оборвался привычный гуд монастырских колоколов. Дома мать и бабушка упали в передний угол на колени, ждали — вот грянет гром и начнется светопреставление. Ничего не случилось. Всю ночь сияли знакомые звезды, утром так же взошло солнце. Второе — открыли мощи преподобного. В серебряной раке, которой запрещалось касаться и пальцем, а только целованием, вместо нетленных мощей угодника оказалась кучка трухлявых ребрышек да клочок рыженькой бородки.
После того из монастыря начали выселяться монахи. Простые чернецы уходили пешком, архимандрит, казначей, келарь, старцы уехали на подводах. Не успел еще выйти за ворота последний чернец, в монастырь кинулись ребята. Они были с разных улиц, многие даже враждовали друг с другом, но тут одной дружной ватагой полезли на колокольню. На нижние две-три ступеньки падал зеленоватый отраженный свет с паперти, выше стояла полная тьма.
Миша впервые был на этой лестнице. Темная и холодная, как подполье, шла она винтом внутри каменного столба. Он не знал, что в ней семьсот ступеней, к тому же темнота удлиняла время, и к концу пути он уже считал себя и товарищей погибшими. Выбравшись вновь на свет, к колоколам, он долго озирался: то ли это солнце? Почему такое яркое? Тот ли городок, поля?
С высоты колокольни и городок и поля — все казалось другим, не похожим на себя. Рожь и лес — одинакового роста, дороги сузились в тропинки, и по этим тропинкам шли и ехали на игрушечных телегах игрушечные монахи. В пролеты колокольни дул страшный ветер, такого Миша не помнил на земле, такой уложил бы все деревья, и совершенно ясно чувствовалось, что колокольня плывет и зыблется — и плывет почему-то против ветра.