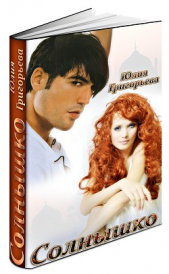Солнышко в березах
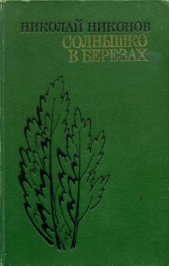
Солнышко в березах читать книгу онлайн
Повести уральского писателя Николая Никонова («Солнышко в березах», «Глагол несовершенного вида») автобиографичны. Неторопливая манера повествования придает произведениям писателя характер особой задушевности, правдивости. Наряду с изображением человеческих отношений, судеб, автора интересуют проблемы отношения к богатствам земли.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К началу третьей четверти появилась наконец постоянная директорша, тихая низенькая старушка со сложным труднопроизносимым именем Мариамна Вениаминовна. Старушку с этим плетеным именем мы немедленно перекрестили в «Марьяну». «Наша Марьяна» и «наша Марьяша» — только и слышалось первое время то в классе, то в курилке под взрывы злого хохота! Мы хотели быть и слыть достойными своей хулиганской славы.
Директорша засела в кабинете, на переменах не показывалась. Вызванных за буйство увещевала тихим ровным голосом без всяких интонаций. Говорила Мариамна Вениаминовна очень долго, начинала издалека, тут тебе и «Посмотри-ка, сколько о тебе заботятся», и «Зачем ты огорчаешь родителей», и «Что скажет папа», и «Как воспримет мама», «Ведь ты — пионер, будущий комсомолец», «Вот ведь ты галстук носишь, а под галстуком — что?».
Показываться к директорше стали с неохотой. Шутка ли простоять час-полтора, переминаться с ноги на ногу, слушая, как тебя увещевают: «Ты же, посмотреть, хороший мальчик, а так шалишь», «Где у тебя гражданская совесть, чувство ответственности перед коллективом?», «Ты же позоришь класс, не изучаешь правила поведения». Она говорила «павидения», «не изутчаешь». Слова ее текли, текли и текли, и в конце концов даже самые неисправимые буяны, из тех, кто раньше, вылетев из директорской, тотчас же с грохотом несся по коридору, успевая распахнуть все попутные двери, а кое-где и всунуться, язык показать, — уходили тихие, задумчивые, усталые.
Экзамены за седьмой класс назывались теперь выпускные, за десятый — на аттестат зрелости — слово в то время новое и как-то чересчур торжественное. «Выпускные» я не думал осилить. Особенно по математике. Знал только: сдам историю, биологию, немецкий, а там… Решил, если останусь на второй год — школу брошу… Зачем она мне? Пойду работать, хоть карточку буду рабочую получать. Восемьсот граммов хлеба! Это вам не шутки! И я с прохладцей готовился к экзаменам. Чего там готовиться — не до того было. Война кончалась. Уже горел Берлин. Ждали: вот-вот захватят Гитлера, Геринга, Геббельса, всю эту проклятую шайку, из-за которой четвертый год мы голодали, жили без отца, жарили редьку на воде и на олифе, а весной, бывало, мать варила и крапиву, и лебеду, которую я собирал на пустыре, за огородом.
Экзамены, однако, я, к собственному удивлению, сдал, перешел в восьмой, и тут нам было объявлено, что мы можем присутствовать на вечере старшеклассников по случаю окончания учебного года и что это будет не просто вечер, а — бал!
Знаете ли вы, что такое вечер в мужской средней школе? Нет, как писал Гоголь, вы не знаете, что такое вечер… в мужской средней школе. Особенно в очень средней, как наша. Сперва, как водится, доклад директорши, под конец которого все начинали зевать и скрипеть скамьями, кашлять, переговариваться. Потом выступал хор под управлением военрука — он был одновременно учителем пения и еще учителем физкультуры.
Не могу не вспомнить те странные уроки, когда он выводил нас за школу, распускал, и мы бегали, боролись, гоняли какой-нибудь отопок за неимением мяча.
А военрук стоял в стороне, курил, глядел жесткими ястребиными глазами, они у него остро колечками желтели, не мигая. Потом заворачивал рукав, смотрел часы, долго смотрел и наконец, пустив слюны в окурок, бросал его, давил сапогом, жестко морщился, как полководец, проигравший битву, сурово и тихо бросал: «Ппа-строиться!..» Урок физкультуры был окончен. Кое-как мы строились, сбивчиво шагая, шли в школу. Военрук шел позади, изредка покрикивал: «В-зять нногу-у! А ррыс… а ррыс, а ррыс-дыва, три-и, а ррыс-два-три…»
Шли в школу. Лис методично поддавал коленом Тартыну, тот выгибался, оборачивался. Лис хрипел: «У-у, бболотный!» Хотелось треснуть Лису по шапке, но я знал, что меня тогда ждет. «Ребята» у него были, и расправа с непокорными творилась на крыльце и за углом школы.
На вечерах хор под управлением военрука всегда начинал с песни: «От края до края, по горным верши-и-и-нам, где горный орел соверша-а-ет полет…» Песню эту знали все. Она мне нравилась, особенно слова о том, как «поют эту песню и рикши, и кули, поет эту песню китайский солдат». И вспоминался Юрка-китаец, лучший мой друг, добрая душа.
После песни выступала театральная труппа, созданная Ниной Васильевной. И всегда читали отрывок: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься…»
Я любил этот отрывок, как вообще полюбил Гоголя за «Вечера на хуторе…», за «Тараса Бульбу», за «Ревизора» и «Мертвые души», прочитанные многократно, взахлеб, с наслаждением, равного которому не дал мне ни один писатель. Я перечитывал многие понравившиеся места и, пораженный, размышлял, где таится их красота, похожая на богатый и скупой блеск старой позолоты.
Но «Тройку» читал Димка Воробьев, отличник, даже круглый отличник, хотя «круглый» скорее подходит к словам «сирота» или «дурак». А он был и не сирота, и не дурак, он был круглый, и читал так же кругло, веско, чеканно и бездушно-плохо. Души там не было. Весь он был ударный, нацеленный, плакатный — тогда еще не было рожденного в недрах общественности слова «боевитый», а оно бы очень к нему подошло. Ударно декламировал, ударно уходил, вскинув голову, меньше пятерки у него ни по какому не бывало. Вот вспоминаю его сейчас и думаю: из таких обязательно выходят всякие ораторы-организаторы из фабкомов и постройкомов. Хлебом их не корми — дай только решать, заседать, обсуждать, песочить, выводить из состава… Даже когда невольно приглядывался к Димке, я, кажется, угадывал его судьбу. Судьба, будущая профессия и самый характер человека выглядывают, вообще-то, очень рано, когда, наверное, человек и сам ни о чем не догадывается. Вот жил в нашей улице пятилетний мальчик Вовочка Горбунов — его все звали Вовочка, а других Володька, Вовка, Вовяй. Мне тогда было семь, и мы играли. В это время привезли на детскую площадку, недалеко от нашего дома, деревья для посадки. Яблони, акации, тополя. Садили их пенсионеры и женщины, мы, ребятишки, толклись тут же — помогали, а Вовочка ходил, заложа ручки за спину, чистенький, в беретике, к одной яме подойдет — посмотрит, к другой подойдет — глину сандалием попинает. Деревья привязали к кольям, полили, старухи и женщины ушли, а Вовочка сказал: «Давайте игвать… Вы будете лабочие, а я буду диектол…»
Изредка я раздумываю — кто кем будет. Ну, Лис — он дурак дураком, а устроится, вылезет, папа поможет то се. Звезд с неба хватать не будет, а проживет не худо. Клин в инженеры подастся. Они с Гуссейном по математике — диву даешься, любые уравнения будто наперегонки решают. Пока я глазами хлопаю, ручку грызу, не знаю, как начать-подступиться, у них все готово. Кудесник по письменной части пойдет. Будет служить в конторе помзамзавом, носить сатиновые муфты-нарукавники. Васька Бугаев — он же просто Бугай — скорее всего будет железнодорожник. И сейчас ходит во всем железнодорожном, и отец у него железнодорожник, и лицо такое железнодорожное — темное, желтое, блестит, как у машиниста. Гипотез пойдет в армию, на флот. А Мышата станет токарем-слесарем. К двойкам-колам притерпелся, зато в карманах у него железки, гайки, отвертки… Официант? Он и есть официант. Что тут долго рассуждать. Вот Тартын — загадка, никак не могу представить, кем он будет. Ни одна профессия не подходит: с виду тихонький, а если за что возьмется — настырный. Как-то в мае уже попросила Нина Васильевна помочь ей книгу найти в библиотеке. У нас библиотека есть — библиотекарши нет. Книги свалены по углам, стоят на пыльных полках. Попробуй найди какую-то там методику. Мы покопали — ушли. А Тартын рылся до вечера — нашел…
И еще не знаю я, кем буду сам. Кем буду? Это у меня каждый год меняется. Маленький — летчиком быть хотел. Все, наверное, тогда летчиками хотят… Уши дома прожужжал. Самолетами бредил. Картинки собирал, марки. Потом моряком быть захотелось. И долго хотелось. Годы. Лодки, яхты, модели делал, военные корабли. Погоны адмиральские из картона изготовил. Контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал флота. Чтобы одному разыгрывать морские бои было нескучно, приглашал одноклассника из прежней школы Ремку Емельянова, попросту — Емельяшку. Дал ему чин контр-адмирала, себе взял вице-адмирала. Зря, что ли, месяцами флот строил? Начали играть — вижу: Ремка хмурится, кислится. «Ты что? — спрашиваю. — Почему погоны не пришиваешь?» Мнется он, мнется, потом говорит: «Я тоже хочу… — вицце…» Поиграй с таким… А сейчас я больше всего хотел бы быть, как Уоллес, Альфред Руссель Уоллес, чтобы побывать там же, где и он, своими руками собрать эти 111 700 экземпляров, пробираться малайскими джунглями, дышать запахами тропического леса, слушать вой обезьян и крики ящериц, плыть по лесным рекам Бразилии, искать и находить чудесных лесных существ: бабочек, змей, пауков-птицеедов, жуков-голиафов, пестроперных птиц и ярких тропических рыбок. Вот, например, что написано у Пузанова: «Разнообразие видов бабочек в Южной Америке столь велико, что, по данным Уоллеса, в окрестностях одного лишь города Пара в Бразилии можно собрать 700 видов дневных бабочек, в то время как во всей Англии их не более 64 видов». Это мои самые горячие, самые прекрасные мечты. Но тут же почему-то грустно мне становится и трезво я чувствую, что, конечно, Уоллесом никогда не буду — вряд ли такое возможно. А Малайский архипелаг, Бразилия — одна голубая счастливая дымка. Скорее уж моряком, может быть, зоологом. Животных разных, зверей и птиц не просто люблю — они мне родные…