Дом среди сосен
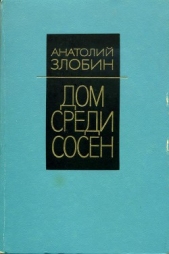
Дом среди сосен читать книгу онлайн
В книгу известного советского писателя Анатолия Злобина вошел роман «Самый далекий берег» (1965), посвященный событиям Великой Отечественной войны, повести и рассказы: «Дом среди сосен», «Снегопад», «Билет до Вострякова» и др., а также «Современные сказки» — цикл сатирических новелл.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Севастьянов! Иди греться в мой окоп.
— Ничего, мне уже не холодно, — ответил Севастьянов.
Стайкин не услышал, снова закричал:
— Что же ты молчишь?
Севастьянов замерзал. Во время последней атаки, когда над озером зажглась немецкая ракета на парашюте, Севастьянов согрелся, но как только снова лег на лед, тепло стало быстро уходить из тела. Кто-то сказал, что к холоду нельзя привыкнуть. Можно привыкнуть к славе, богатству, к подлости и изменам. А к холоду не привыкнешь. Севастьянов пытался вспомнить — кто же сказал это?..
Кругом был холод: в воздухе, во льду, в воде подо льдом; холода кругом было очень много, а тепла в человеческом теле, в сущности, совсем мало. Холод притягивался к теплу, просачивался сквозь одежды. Холод питался теплом. Он пожирал его, высасывал из тела.
Первыми стали замерзать пальцы на ногах. Севастьянов лежал и быстро шевелил ими, но пальцы все равно замерзали.
Потом замерз нос. Лицо Севастьянова до самых глаз было закрыто, но пар, выходя изо рта, застывал на подшлемнике, шерсть покрывалась инеем, промерзала. Севастьянов быстро снимал рукавицу, оттягивал подшлемник, растирал нос рукой. Нос начинало покалывать, а рука быстро замерзала. Он прятал руку в рукавицу, чтобы согреть ее, и тогда нос замерзал еще быстрее.
Потом холод проник в колени и в живот, и как только Севастьянов пытался пошевелиться, чтобы согреться, холод острыми иглами колол тело. Тогда Севастьянов понял, что бороться бессмысленно. Он закрыл глаза и старался не думать; ведь для того, чтобы видеть, думать, тоже нужно тепло, которого у него уже не было. Он поджал ноги к животу и лежал не шевелясь. Замерзли руки, он не выдержал, зажал руки меж колен, и это движение забрало последние остатки тепла. Он почувствовал колючие прикосновения белья, и оно стало сдавливать его все сильнее; он лежал, пытаясь нагреть холодную ткань в тех местах, где она плотнее прижималась к нему, и ему начало казаться, будто белье согревается и телу становится тепло. Он не знал, что это означает конец, и обрадовался, потому что ему становилось все теплее. Сначала он думал только о том, чтобы не замерзнуть. Потом ему сделалось тепло, и он вспомнил большой сумрачный зал Публичной библиотеки в Ленинграде и стал вспоминать прочитанные книги. Шелестели страницы, в зале было тепло, тихо. И тогда на лице его появилась улыбка. Он лежал на льду Елань-озера под огнем пулеметов, замерзая от холода, и улыбался: теперь было тепло, и мысли его были приятны ему.
Кто-то окликнул его:
— Севастьянов!
Голос Стайкина с трудом дошел сквозь то тепло, которое еще оставалось в нем.
— Я здесь, — ответил Севастьянов; ему показалось, что сосед по книгам зовет его, и он отвечает ему через стол и поэтому ответил полушепотом, как говорят в библиотеке. Стайкин не услышал, позвал снова:
— Севастьянов, иди греться в мой окоп.
— Ничего, мне уже не холодно, — беззвучно, одними губами ответил Севастьянов.
— Что же ты молчишь? — крикнул Стайкин, и Севастьянов удивился, что сосед не слышит его.
Стайкин схватил флягу, подбежал к Севастьянову. Он упал на него, изо всех сил колотя и толкая.
— Зачем? Зачем? Мне тепло, — беззвучно говорил Севастьянов, но Стайкин не слышал и колотил все сильнее; потом стал пинать ногами, катать по льду, словно бревно.
Севастьянов почувствовал колючий холод, острые иглы вонзились в тело — вместе с болью к нему вернулась жизнь, и он снова оказался на льду Елань-озера.
— Холодно, — сказал Севастьянов громко и открыл глаза.
— Выпей, Севастьяныч, выпей.
Севастьянов увидел, что Стайкин стоит на коленях и протягивает ему флягу.
— Я же не пью.
Стайкин больно схватил его, всунув флягу между зубами.
— Не надо, не надо. — Севастьянов пытался оттолкнуть Стайкина, но у него не было сил. Горячий огонь вошел в горло, вонзился в тело, стал разрывать внутренности. Севастьянов застонал.
— Порядок, — Стайкин влил в Севастьянова еще немного водки. Севастьянов закрыл глаза, затих. Стайкин сидел, поджав ноги, и смотрел влюбленными глазами на Севастьянова.
— Как теперь?
— Вы знаете, Эдуард. Оказывается, жить очень больно. А замерзать даже приятно, честное слово. Сначала только немного колет, а потом тепло и вовсе не страшно. Я вспоминал о чем-то хорошем, о чем давно уже не вспоминал, только забыл о чем.
Стайкин вскочил:
— Рядовой Севастьянов. Слушай мою команду. По-пластунски вперед!
— Зачем? — удивился Севастьянов.
— Вперед! — Стайкин решительно вытянул руку.
Севастьянов перевалился на живот и, неумело двигая ногами, пополз в ту сторону, куда указывала рука Стайкина. Стайкин полз следом и подталкивал Севастьянова, когда ноги его скользили по льду. Стайкин скомандовал встать, они побежали в темноту. Севастьянов бежал, нелепо вскидывая негнущиеся ноги. Стайкин устал и дал команду — шагом.
В темноте за цепью находился пункт боепитания. Севастьянов нагрузил волокушу коробками с патронами, они вместе впряглись в ремни, потащили волокушу.
— Теперь живи, — великодушно разрешил Стайкин.
— Ох, Эдуард, я устал. Я устал жить. Я устал лежать на льду. У меня такое чувство, будто я всю жизнь лежу здесь на чужой замерзшей планете и ничего нет, кроме нее. Жизнь — это усталость и боль.
— Вперед! — скомандовал Стайкин. — Быстрей!
— Нет, Эдуард, это не поможет. Ни вам, ни мне.
— Врешь! — закричал Стайкин. — Я в смертники записываться не собираюсь. Меня не так легко в смертники записать! Тащи! Быстрее!
Они добежали до цепи, начали разгружать волокушу. Солдаты один за другим подползали, чтобы забрать патроны и гранаты.
— Вспомнил! — Севастьянов неожиданно выпустил ящик с гранатами, и тот шлепнулся на лед. — Я вспомнил!
— Что ты вспомнил, чудило? — спросил Стайкин.
— Вспомнил то, что я читал.
— Где?
— Здесь, на льду. Только что...
— Эй, Маслюк! — крикнул Стайкин. — Подойди сюда, полюбуйся на этого сумасшедшего. Он что-то читал.
— Да, да. Я читал приказ главнокомандующего...
— Приказ? — удивился Маслюк.
— Да, да, — горячо говорил Севастьянов. — Он был главнокомандующим, но ему не нравилось — ди эрсте колонне марширт, ди цвейте колонне марширт... Но я не это... Слушайте, я вспомнил, я сейчас расскажу... — Он говорил сбивчиво, будто захлебывался; солдаты с удивлением смотрели на него. — Да, да, это очень важно... Об этом все знают, но не все понимают, как это важно...
— С ума сошел, — испугался Стайкин.
— Нет, нет, — перебил Севастьянов, — не мешайте, я скажу. Вот был бой, а потом пришли мысли. Слушайте. «Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?» — думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, раненые и нераненые, — это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его и разломанной руке и плече. Чтобы избавиться от них, он закрыл глаза...» — с каждой фразой Севастьянов говорил громче, спокойней. Солдаты сначала слушали с удивлением, а потом поняли, что Севастьянов говорит не от себя, а что-то вспоминает, они подвинулись ближе, затаились.
Пулеметы били вдалеке, на фланге.
Он продолжал:
— «Никому не нужен я! — думал Ростов. — Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». — Он вздохнул и со вздохом невольно застонал. «Ай болит что? — спросил солдатик, встряхивая рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крикнув, добавил: — Мало ли за день народу попортили. Страсть!» Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистой шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всей любовью и заботой семьи. «И зачем я пошел сюда!» — думал он».
Севастьянов замолчал и закрыл глаза. Солдаты тоже молчали. Наконец кто-то сказал:

























