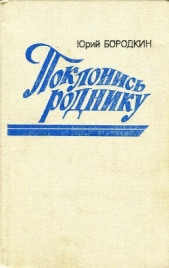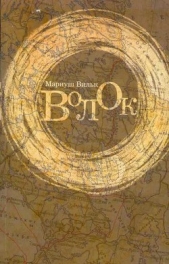Кологривский волок

Кологривский волок читать книгу онлайн
Роман повествует о жизни деревни в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, о долге современников перед старшим поколением, о воспитании у деревенской молодежи лучших традиций отцов — любви к Родине, к отчей земле, к делу, которому отдаешь всю жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уснул Иван. Ему-то легче, не надо выходить в поле с бабами, уехал на станцию и весь день — в рейсе. Настя осторожно поднялась, убрала с подушки его вялую руку. Он пошевелился, почмокал губами и снова затих. Выпуклый, слегка раздвоенный подбородок, резкие скулы, в глазницах запряталась темнота — лицо выражало каменное спокойствие. Оно показалось чужим и далеким, может быть, потому, что Настя надолго приковалась к нему взглядом. Стало обидно, почему он может спать с младенческой безмятежностью, когда ей смутно, беспокойно? И, позабыв о том, что он смертельно умотался за баранкой, она готова была разбудить его, чтобы избавиться от этой немоты в избе.
Прижалась к подушке. Вспомнила другую ночь, зимнюю, рождественскую. Свадебный поезд, дорога из Потрусова в Шумилине, серебряный звон поддужного колокольчика, оставшийся в ней на всю жизнь. Поют полозья. Дробят в передок снежные комья из-под копыт. Лошади игриво всхрапывают, закидывают головы, белый пар толкается из ноздрей. Стынет отполированное ветром поле, стынет низкая луна над заиндевелым перелеском. Небо звездным пологом качается над головой, стряхивает искристый куржак.
Настя с Егором сидели в тесной кошевке, укрывшись одним тулупом. Его глаза светились морозным блеском, привораживали своей близостью. Они были молоды, и вся жизнь впереди представлялась им такой же дивной, как эта дорога.
На загумнах их встретили ребята с факелами: у кого льняной сноп, у кого облитая керосином ветошь на палке. Им тоже был праздник и забава; закричали, раскручивая снопами перед испуганными лошадьми. За теми факельными огнями осталось Настино девичество…
Смежила глаза и снова очнулась, будто кто в бок толкнул. На цыпочках подошла к Шурику, поправила одеяло и села у окна. Уже рассвет подходил к деревне, кромка неба с утренней стороны начала розовато подтаивать. Ближе придвинулись соседние избы. У крыльца стоял линяло-зеленый, тупорылый «студебеккер», американская машина, занесенная войной в такую даль. Егор тоже мог бы работать шофером. Проклятая война.
Окна впустили ненавязчивый свет зари, он робко затеплился на белом боку печи. Сон совсем отлетел от Насти, хотелось поскорей дождаться дня, чтобы множеством разных дел заслониться от докучливых мыслей. Обвела взглядом избу, прикидывая, что можно успеть до бригадирского звонка. «Надо печку истопить, хватит из дому в дом бегать. Чем накормить-то моих мужиков?» — подумала она.
Двое спали, не ведая о ее заботах.
15
Косить на себя дали только в августе, когда перестоявшая трава уже посохла, побурела, хоть прямо с косы клади в копны. К этому привыкли, каждый год косили до заморозков, а овес так и вовсе горевал до снегу.
Делили Савкин луг. Наталья Леонидовна крутила шагомером, шесть раз перекинет — пай. Легкий на ногу Федя Тарантиы бродил броды, любит он это дело, бойко прискакивает, боком-боком, как петух. Расчертили росистый луг темными полосами следов, бросили жребий, кому какой пай. Карпухиным достался соседний с бригадиром. Их трое, целая артель, а она одна.
— Леонидовна, твоя где помощница? — спросил отец.
— Спит, пожал ела будить. Такую поздать вчера пришла, уж серенький светок в окнах. Я говорю, вдругорядь, девка, не отопру, так и знай. Смотрю, от крыльца провожатый пошел, папироской мигает: не углядела чей.
— Само собой, одна не будет стоять.
Серега слушал их, ухмыляясь про себя, чуточку пригнув голову, замахивая косой. Еще дурманил сон, надо было поразмяться, чтобы стряхпуть его. Может быть, Наталья Леонидовна хитрит, узнала провожатого?
Он шел впереди, за ним — мать. Отец точил косу, с каким-то особенным усердием прицеливаясь к лезвию из-под сдвинутой на глаза кепки, голову склонил набок, деревянную ногу выставил как подпорку. Лопаткой чикал размеренно, с медлительной затяжкой. Зато коса после такой точки становилась бритвой.
— Прасковья-то Назарова на пару с невесткой вышла, — кивнула бригадир.
— Каково Василию в такую пору одному около больной Анфисы? Наверно, без коровы останется, — посочувствовала мать.
— У него не малые детки.
Услышав любопытный разговор, подоспела Евстолья Куликова. У нее всегда новостей короб, если кого-то ей надо охаять, не пожалеет красок, присочинит. Опираясь на косу, она подождала, когда другие бросят работу, замотала головой, как кукушка:
— Я этта захожу к Коршуновым, Анфиса лежит, парнишечка возле ней. Гладит его и слезами заливается — жалеет. Мы бы, говорит, и вовсе оставили его у себя, Настасья не дозволяет.
— Ведомо, дедушка с баушкой ростили, и он привык. Внука от себя не оттолкнешь.
— Им бы надо в другую деревню дом перевезти, машина своя.
— Анфиса говорит, под конец житья не стало, взъелась на меня, в больницу выпроваживала, — продолжала Евстолья.
— Может, попеняла только. У кого хошь терпения не хватит, ведь не родная дочка.
— Не скажи, это она на людях такая тихоня, а дома хабалит. Смотри, парня окрутила. Я бы на Прасковьином месте сказала: вот бог, вот порог, и вся недолга.
— Чай, не у ней в избе живут.
— Ну уж тоже лебезить-то нечего: смотрю, и посуду тащит, и молоко, рада от себя оторвать, а им вопхнуть. Наплевала бы. Тьфу! Видали, сами косят, мальчишонку сплавили старикам, так и вынянчат.
— Тебе пуще всех забота! — оборвал Евстолью отец.
— Что ни говори, а страм!
Она, вроде как спохватившись, заковыляла к своей кулиге. Сейчас к другим бабам подстанет, почнет языком хлестать: всегда мутит, как мутовка.
Мать косила лучше Сереги, но пустила его вперед: теперь нечего было рваться из последних сил, с возвращением отца в семье как-то все уравновесилось. Давно ли ждали конца войны — вот уж придут мужики. А не густо их на лугу, только отец да Игнат Огурцов и добавились. Все же не ушел Игнат в леспромхоз. У остальных, как у Натальи Леонидовны, всякое дело в одни руки.
Отодвигается, уходит лето. Молчаливо в полях. Уж не щебечут ласточки, не расхаживают по кошенине сытые скворцы, редко взовьется жаворонок. Прощальным благовестом вызванивают косы. Солнце легонечко напирает в спину, за лето оно поистратилось, а Серега, наоборот, поднакачал в кузнице силенки. И чем меньше оставалось ему деревенских дней, тем осознаннее он чувствовал свою связь с этой землей и с этими близкими ему людьми, среди которых он вырос.
— Вон, твоя славница является, — сказала мать бригадиру.
Танька спешила, на ходу перевязывая платок, покачивая локтями. Она приближалась к Сереге по броду, словно по жердочке держала равновесие, поравнявшись, украдчиво вскинула узкие глаза. Воздух колыхнулся от ее платья.
— Ты чего, моя милая, с пустыми руками статишь? Я ведь косу на тебя не взяла, — встретила Таньку Наталья Леонидовна.
— Ну вот! Домой, что ли, бежать?
— Поди сюда, — позвал отец, — возьми нашу.
Они быстрей всех скосили свою кулигу и сели отдыхать возле прошлогоднего остожья. Курили с отцом из одного кисета. Приятно мутилось в голове от спелого запаха сомлевшей травы. Серега не отпускал глазами Таньку. Солнце сверкало на ее резиновых ботах, гладило загорелые икры, пестрило в ситцевом платье; черные косы маятником раскачивались на спине. Остаться бы сейчас вдвоем среди этой тишины августовских полей, в дурманных запахах трав.
Держа губами приколки, мать причесала гребенкой мягкие волосы, свила на затылке клубочком: голова ее сделалась маленькой, прибранной, как после бани. Белый платок вольготно накинула на плечи. Надсаженные работой, с острыми лодыжками и темными жилами, будто кровь запеклась в них, руки казались старше ее.
— Любо-дорого, когда все-то вместе. В кою пору смахнули весь пай, — радуясь за свою удачливую судьбу, говорила она.
— Что, корову-то будем менять нынче? — спросил отец.
— Надо. Лысена и слаба и стара: тринадцатым теленком. Уж такой удойницы, поди-ка, не найдешь. Не подвела она нас, до конца войны дотянула. Без нее и мы бы свалились. Летом-то ладно, а зиму не знаешь, как и пережить, все в лес посылали. Ребята останутся с баушкой. Чем их кормить? Молоко да картошка, вместо хлеба — пышки из отрубей и клевера, от них только животы дует да крепит, — рассказывала мать. — В лесу того не легче: впроголодь надсажаешься с экими-то деревами. Кадровым рабочим и деньгами платят, и матерьялом, и сапоги с фуфайками выдают, а мы все за свои трудодни колотимся, и по дому сердце болит. Из-за этого лесу и Верушку чуть не потеряли. Помню, от самого лесоучастка до деревни впробеги бежала, захожу в избу — лампадка теплится в углу, Верушка уж вроде как совсем утихшая лежит: ручонки, словно плеточки, поверх одеяла, веки почернели — напекло жаром. Я ухом прислонилась — едва дышит, живого в ней, видать, малехонько осталось. Бабка говорит, ты не убивайся, девка, не удержать нам ее, я уж ланпадку вздула: бог дал, бог взял. Как же так, думаю, за что он меня наказывает?