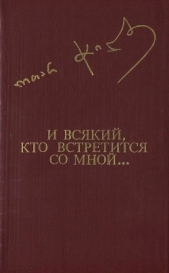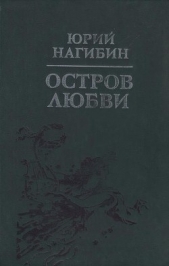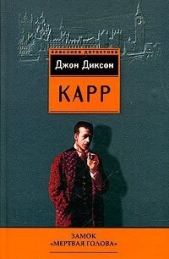Железный театр

Железный театр читать книгу онлайн
Талантливый грузинский поэт Отар Чиладзе последние годы плодотворно работает в жанре прозы. Читателю известны его романы «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной». «Железный театр» — новый роман О. Чиладзе.
Роман О. Чиладзе «Железный театр» удостоен в 1983 году Государственной премии Грузинской ССР имени Руставели.
Переводчик романа Э. Г. Ананиашвили — лауреат премии имени Мочабели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Единственным, кого еще не заботили непонятные ему земные страсти и треволнения, был Андро. Он и не подозревал, что речь шла о его спасении, что само его существование было неприемлемым, неоправданным, нежеланным в этом мире. Не знал, что родные собирались украдкой, контрабандой переправить его в лучший мир, еще не родившийся, мир, который пока только робко шевелился, незримый и неустроенный, в лоне первичного хаоса, и неизвестно, сумел ли бы еще родиться. Андро ничего не знал. И ничем этим не интересовался. Пока что самое большое чудо, самая надежная земля, самое ясное небо, самый благоухающий сад лежал на постели рядом с ним и шептал ему на ухо: «А теперь мы должны заснуть, все хорошие мальчики уже спят». И он засыпал сладким, беззаботным сном, весь напоенный запахом матери, гордый, надменный, спесивый от своего неведения и своей беспомощности. Так шло время. А когда он проснулся, мать подхватила его на руки, вынесла на террасу и сказала: «Вон, смотри, лимонное дерево цветет». Он так возбудился, так разыгрался на руках у матери, словно знал, что такое лимон, и понимал, что значит цвести. Он проследил взглядом за материнским пальцем, и бездонная, сочная, яркая зелень ударила ему в глаза — словно пенногривый вал взлетел на террасу, чтобы подхватить и унести мать с сыном. Испуганно обхватил Андро шею матери. Нато улыбнулась и, ласково взяв его за подбородок, повернула лицом к саду. Там пылало, словно охваченное огнем, лимонное дерево, рассыпая, как искры, прозрачные цветы и золотистую пыльцу; цветы порхали в воздухе, словно стайки бабочек, и понемногу, по частям, словно для того, чтобы перевести дух, дать отдых крыльям, опускались, устилали зеленый ковер сада. А когда мать вынесла Андро на террасу во второй раз, все вокруг было бело от снега. Даже вечнозеленые деревья были закутаны в белые чехлы; но снежинки, парившие в воздухе, напомнили ему цветение лимонных деревьев, и сердце у него наполнилось радостью и гордостью оттого, что он уже что-то знал, что-то помнил и эти запавшие ему в душу впечатления должны были стать основой многих неизгладимых воспоминаний, которые будут сопровождать его до самой смерти. Впрочем, тогда, в те минуты, он всего этого еще не понимал; на ногах у него были красные фетровые башмачки, на руках — белоснежные варежки (связанные бабушкой): четыре пальца вместе, один — отдельно, потому что этот один палец был себялюбец и постоянно препирался с братьями: я, мол, толще вас, и мне всего полагается больше, чем вам; но братья выгнали его из дома — дескать, посмотрим, как ты будешь жить один, долго ли продержишься без нас. И в самом деле, палец-себялюбец только о том и думал, как бы вернуться к братьям; трудно ему было оставаться одному, и он успокаивался только тогда, когда ему удавалось избавиться от этого одиночества. Мама сидела на корточках, в подоле у нее лежали шапка, пальто и варежки Андро, она снимала с него фетровые башмачки и смеясь говорила: «Перестань дрыгать ногами, ты же не козленок!» Но Андро был голоден, взгляд его то и дело убегал к молочнику, похожему на птицу с длинным клювом, присевшую на столе, и он нетерпеливо ждал, когда же наконец молочник высунет, дразня его, свой белый дымящийся язык. На скатерти тоже были вышиты странные, необычные птицы (бабушкины птицы) с невиданно длинными шеями и затейливо растопыренными хвостами. Мама быстро, как кошка, слизывала у него с руки пролитые капли молока и подсаживалась к пианино. Пианино гремело. Звенела посуда. Трясся, раскачивался, подпрыгивал на крышке пианино огромный, неуклюжий, шишковатый померанец, на котором кто-то удосужился вырезать сердце, пронзенное стрелой. Это были первые и, наверно, самые счастливые дни жизни Андро. Он сидел на волшебном ковре, гляделся в волшебное зеркало, и под подушкой у него был спрятан волшебный перстень — так что все его желания мгновенно исполнялись. А впрочем, он желал только того, что уже имел, больше ничего ему не было нужно; самым важным для него было не то, чего он не знал, а то, что он знал. У него было все, чего он хотел, и хотел он только того, что у него было. Любил он только тех, кого видел каждый день, только они были ему нужны; а тех, кого никогда не видел, он и не имел никакого желания видеть. Не из подлинного интереса, а только из любви к матери он молча, внимательно слушал ее, когда она разговаривала с ним, как с большим, и спрашивала совета: как быть, что делать, если оба вернутся? И что, если не вернется тот, кого мы ждем, кто и есть настоящий наш папа? Сам Андро никого не ждал, и никакого значения для него не имело, который из двух вернется: настоящий или ненастоящий — или оба вместе, один из тюрьмы, другой с войны. Он предпочел бы, чтобы они оставались где были. Он ничего не знал ни о тюрьме, ни о войне; настоящий отец был для него таким же чужим и лишним, как и ненастоящий: с обоими ему пришлось бы делить мать, делить ее любовь. Ему никто не был нужен, и хотел он только одного: чтобы мать была всегда вот так около него. Она раздевалась в темноте, но и невидимая была красивее всех. «Мама!» — звал он ее из теплой, уютной постели, положив под щеку маленькие ладони: все равно, мол, вижу тебя, никуда от меня не спрячешься. «Да, да, я здесь. Спи», — отвечала мама из темноты, и голос ее был такой явственный, такой живой, такой настоящий, что он не только слышал, но и видел его, этот голос, сияющий, душистый, как цветущее лимонное дерево. Андро целовал его, пытался заманить к себе под одеяло, чтобы голос был с ним, спал там около него, пока мама не проснется и не заберет к себе свой голос. У одной лишь мамы был такой голос. Не у бабушки и не у дедушки, а только у мамы — голос, проникавший к нему в душу, заполнявший всю его душу и рождавший в ней какое-то совсем новое, необычное чувство, таинственное, смущающее, будоражащее, но неотвратимое, необходимое не только в эту минуту, но и вообще, всегда, вечно, потому что без этого чувства (тогда, конечно, он этого еще не понимал) ему было бы трудно свободно дышать, он не стал бы тем, кем должен был стать, не узнал бы того, что должен был знать, не совершил бы того, что ему предстояло совершить. Мама раздевалась в темноте, но он видел, как вытаскивала она шпильки одну за другой из навитой на голову прически, как освобожденные волосы рассыпались по обнаженной спине, разливались, как перетекший через край мед по поверхности сосуда, как она оглаживала руками плечи, словно собираясь войти в море. Потом чуть слышно, таинственно скрипела сетка маминой кровати, и он невольно крепко зажмуривал глаза, как будто уже спал, как будто было бы нехорошо обнаружить чувства, которые он испытывал в эту минуту. «Спишь?» — спрашивала его, опершись на локоть и наклонившись к нему, мать, и сердце вдруг начинало у него биться быстро-быстро, и так волнующе ласково овевало его лицо нежное, благоуханное дыхание матери, что из-под крепко склеенных его век неожиданно выскальзывала предательская, рожденная во мраке, но успокоительная слеза; словно божья коровка сползала она по его щеке, приятно щекоча и обжигая кожу. Мама еще раз целовала его, и прикосновение ее бархатистых губ, казалось бы осторожное, несмелое, сотрясало его до самых глубин, переворачивало всю его душу, разрушало до основания все его притихшее существо и вновь воссоздавало, отстраивало его еще крепче и прочней, убивало его и тотчас же вдыхало в него новую, еще большую и более сильную душу. Он лежал в темноте с закрытыми глазами, но это не имело никакого значения, так как он все равно не мог увидеть больше того, что ему полагалось; видеть мать целиком было так же невозможно, как видеть воздух, которым он дышал, которым очищался и в который был погружен весь, с головы до ног. И так, с головы до ног погруженный в материнское благоухание, он ноздрями, ртом, порами кожи, всем существом впивал этот живительный запах; видел, слышал, чувствовал его и был единственным, кому тот принадлежал; ни одеяло, ни подушка, ни простыня не могли, не имели права тягаться с ним, войти с ним в долю, присвоить хотя бы малую частицу этого благоухания. Казалось, сердце его чуяло, что надо торопиться, что потом, впоследствии, он никак уже не сможет утолить голод, который не утолил в свое время; что он будет обречен на вечный голод, так как потом, когда он наберется ума, скатерть окажется давно уже убранной и он увидит на оголенном и обметенном столе лишь жалкие остатки, крошки, которые не насытят и воробья. А время шло — коварно, беспощадно, неотвратимо, — и с каждым днем все больше сказывалось, все больше его растравляло существование отца (или отцов); он не мог, не соглашался разделить даже с отцом (или отцами) материнское благоухание, как бы ни уверяла его мать, что будущее ее и Андро целиком и полностью зависят от его (их) возвращения, — ведь сам он, Андро, видел в отце (или отцах) лишь соперника (или соперников) и никаких чувств к нему не испытывал, ничего не видел в нем, кроме пустоты, существование которой противоречило разве что законам природы, но не его благополучию. Представлению об отце суждено было остаться для него навсегда таинственным, отвлеченным, далеким, недостижимым, ибо постичь, сблизиться, сродниться с тем, кто сотворил тебя, невозможно, если не увидишь и не почувствуешь его раньше, чем начнешь думать о нем, раньше, чем вообще начнешь думать. Все это Андро понял позже, гораздо позже, после того, как он потерял мать; когда, потеряв мать, вернул себе отца — единственного, настоящего, незаменимого, необходимого; когда почувствовал, понял, потрясенный, что обязан жить для того, чтобы помочь отцу и матери утвердиться в этом мире, что он один способен это сделать, что он один может оправдать их жизнь, каким бы противозаконным ни почиталось его рождение; когда он с невыразимым блаженством и невыразимой болью ощутил, что он сам и есть тот единственный дом, в котором его родители могут существовать вместе, где они будут соединены в самом священном союзе, ибо он сам обвенчает их навсегда, навеки — он сам, уже познавший мудрость лжи, простоту сложности, сладость горечи, свет тьмы, уже понявший, что на циферблате отмеренного ему времени будут, застыв на месте, как неподвижные стрелки, неотступно маячить тени его родителей — до тех пор, пока он не оторвет от них полный детского гнева, детского сомнения и детской недоверчивости взгляд; пока у него окончательно не откроются глаза, способные видеть не лица их, а их души; пока их судьба не потрясет его больше, чем собственное сиротство. Но до этого еще было далеко. Пока еще жизнь кипела, жизнь била ключом. Порт и вокзал были полны солдат и беженцев. Батуми трясся, гудел. В море рыскали германские подводные лодки. То здесь, то там выбивало на берег обломки потопленных судов. А в ресторанах гремела музыка. Заливались звонким смехом женщины с раскрасневшимися лицами и взбитыми, растрепанными прическами, похожие на потоптанных петухом кур. Мужчины лили себе в глотку через воронки вино, хлопали себя по раздувшемуся брюху и засыпали мертвым сном, уткнувшись лицом в собственную блевотину. Жизнь кипела, жизнь била через край. «Подбавь кипятку, Дарья, никак не отогрею ноги», — звал жену Димитрий, сидя с засученными брючинами над тазом, полным горячей воды. «Довольно с тебя, дай мне детей чаем напоить», — отзывалась Дарья. А дети, то есть мать с сыном, Нато и Андро, сидели, запершись в своей комнате, им никого не было нужно, кроме друг друга, и они хотели только одного — чтобы весь мир оставил их в покое. О Геле не было ни слуху ни духу, Саба Лапачи тоже не подавал о себе вестей, и Нато надеялась, что оба они никогда не вернутся. Она страшилась возвращения любого из них, потому что одинаково стыдилась обоих: у одного она отняла, а другому насильно навязала отцовство. Как-то сами собой они превратились для нее в одно существо, поскольку, думая об одном, она волей или неволей оказывалась вынужденной думать о другом; и она одинаково мучилась угрызениями совести, когда вызывала в своем воображении того или другого. Правда, с одним она была связана сердцем, а с другим — умом, но и чувства и ум равно рождали в ней угрызения совести; она чувствовала себя виноватой перед обоими, так как в основе и чувств ее, и мыслей лежал расчет; выгода направляла ее, и поэтому от былой искренности и твердости в ней не осталось следа. И Геле, и Сабе Лапачи она клялась одними и теми же словами, что у нее не было иного пути, что поведение ее было вынужденным. Перед обоими ей нужно было оправдываться, и оба одинаково раздражали ее, так как ей и в голову никогда не могло прийти, что именно перед ними она должна будет искать оправданий; меньше всего она ожидала суда с их стороны, поскольку одного любила, а другой был простым знакомым и не имел с нею ничего общего. Но ведь важно было убедить не их, а самоё себя; перед самой собой старалась она оправдать внезапно родившийся в кабинете у полицмейстера замысел, так же как оправдывала порыв, столь же неожиданно овладевший ею гораздо раньше, на душном и пыльном чердаке. Однако между тем и другим имелось все же существенное различие, а это само по себе означало и необходимость выбора. Чувство обязывало ее оказать, а замысел принуждал принять милость; чувству она сама стала рабой, а замысел был необходимостью, предписанной жизнью; чувство вело ее по призрачным путям мечты, а замысел освобождал от пустых, обманчивых мечтаний, от нескончаемого страха и неопределенности и, главное, от мучительного чувства обиды и унижения, навязанного ей, накинутого, как петля на шею, госпожой Еленой. Если кого-нибудь она ненавидела по-настоящему, так это ее, госпожу Елену; ненависть к Геле и к Сабе Лапачи была более простым чувством, смесью негодования и беспомощности, подобной ярости аробщика, нахлестывающего изо всех сил и поносящего последними словами своих кормильцев быков и в то же время только на них и надеющегося, лишь с их помощью рассчитывающего вытащить арбу из лужи. Так что, видимо, выбор был сделан Нато еще до того, как ее вызвали в полицию; во всяком случае, подсознательно она уже была готова к своему решительному шагу, на который толкали ее и другие причины, не менее сильные, чем страх, женское самолюбие и жажда мести. Не с полицией она имела дело, а с госпожой Еленой, так как полиция, в конце концов, поступала так, как ей полагалось поступать, делала то, что ей предписывалось делать, тогда как равнодушию и жестокости госпожи Елены не было никакого оправдания, объяснением же их могли быть лишь зависть и ненависть. Это и сбивало с толку, это и сводило больше всего с ума Нато, с этим-то она и не могла никак примириться, хотя равнодушие и жестокость госпожи Елены в известном смысле служили ей толчком, воодушевляли ее на борьбу и, главное, убеждали в правильности решения, принятого в полиции, во время минутного затмения. Это с госпожой Еленой спорила она, когда нашептывала несмышленому еще сыну: «Правильно мы сделали, не будем навязываться тем, кому мы не нужны». Между прочим, после того неудачного посещения госпожи Елены в театре Нато еще раз попыталась покорить сердце своей неприступной свекрови (или сломить ее окаменелое упрямство), еще раз — была не была — явилась к ней, на этот раз с ребенком, домой. В надежде, что, увидев внука, госпожа Елена раскается, смягчится, поймет, как она была несправедлива, и, прижав Нато к груди, скажет ей: «Ну ладно, раз ты сделала по-своему, протянем друг другу руки и станем вместе дожидаться Гелы». Но госпожа Елена осталась непреклонной, она сидела с каменным лицом и даже не поднялась со стула — так, как будто к ней заявились кредиторы и она с нетерпением дожидалась, когда наконец догадаются уйти непрошеные гости. А Нато, не жалея усилий, тщетно искала путь к ее бесчувственному, обескровленному сердцу. «Смотри, какая красивая киска, какие красивые часики, какие красивые стаканчики», — в восторге лепетала она, расхаживая по комнате с ревущим Андро на руках, как будто пришла сюда для того, чтобы показать ребенку все здешние чудеса, а не как нищая, не как попрошайка цыганка, что, выставив в подтверждение своего неоспоримого материнства из-под кофточки, оголив грудь, старается выклянчить как можно больше у «милостивой хозяйки», поскольку женщине с ребенком больше и требуется и поскольку отправить ни с чем женщину с ребенком грешно, постыдно, бессовестно, — так что как бы хозяйке ни было трудно, а придется ей преодолеть свою скупость и подать милостыню, хотя бы напоказ всему свету, в доказательство своей щедрости и милосердия. На Андро пока не производили никакого впечатления ни кошка, ни часы, ни бокалы; и, разумеется, он не понимал, что присутствует при яростном, беспощадном поединке двух женщин любящих одного и того же мужчину, но совершенно по-разному обездоленных из-за этой любви, поединке бесконечном, или концом которого могла оказаться лишь пустота, ничто, бесконечная пустота и нескончаемое ничто, ибо бесконечным ничто было и то, ради чего они сражались, да и сражались они, лишь чтобы самим себе не признаться в этом, поскольку, пока они не сложили оружия, в известном смысле и предмет их распри сохранял право на существование — предмет их распри, бесконечная пустота, нескончаемое ничто, сын одной и муж другой противницы, грех, навеки связавший двух женщин, общий, взаимный, но неделимый, ибо разделить его значило признать его смерть, примириться с его смертью, чего ни одна из них не могла допустить хотя бы потому, что тяга к несуществующему сделала их уже необходимыми друг для друга и они нуждались друг в друге прежде всего, чтобы обманывать себя, и не имело никакого значения, будут ли их отношения отношениями матери и дочери, свекрови и невестки или заклятых врагов, поскольку любые отношения были одинаково пригодны, чтобы набросить маску существования на несуществующее, чтобы одной сохранить право на материнство, а другой на супружество. Госпожа Елена сидела насупленная у стола, положив одну руку на колени, а другую на стол. А Нато готова была ходить на голове перед этой сумрачной, неприветливой женщиной, вилять перед нею хвостом, как собачонка, чтобы у той хоть на мгновение, хоть из вежливости разошлись складки на лбу; чтобы та хоть раз подхватила на руки малыша — пусть как соседского ребенка, а не как собственного внука; чтобы хоть вскользь, хоть одним словом подбодрила Нато, чем-нибудь, как-нибудь выразила ей свою поддержку, свое сочувствие — не как дочери или невестке, а как одна женщина другой; но госпожа Елена не считала Нато достойной даже этого, ей хватало и своего несчастья, она так гордилась своей бедой, беда так вскружила ей голову, что она ничего не хотела видеть и слышать. Нато пока еще сдерживалась, но уже не знала, надолго ли ей хватит выдержки и как она станет себя вести в следующую минуту: будет ли продолжать подлещиваться и вилять хвостом или вцепится когтями в надменную соперницу и бросит ей в лицо все, что о ней думает, все, чего та заслуживает за свою переросшую в жестокость справедливость и за свое переросшее в злобу равнодушие. Черная кошка валялась на тахте как мертвая. Она ни разу не пошевелилась, даже не раскрыла глаз, как будто и ей было наплевать на плач Андро и на мучения Нато. А Нато хотелось сбросить кошку с тахты или разбить что-нибудь, но ее удерживал сын, как узда сдерживает лошадь. Впрочем, возможно, что было еще что-то, действовала какая-то незримая сила, которая могла удержать ее в эту минуту; существовал какой-то незримый барьер, через который ей труднее было перешагнуть, чем через любовь и почтительность. И вдруг к ней пришло потрясшее ее понимание — ей стало ясно, что этим барьером было единственно ее превосходство. «Вместо того чтобы… Вместо того чтобы…» — бормотала она в замешательстве, внезапно осознав, что сама находится в гораздо более выгодном положении, чем ее соперница: отсутствующий, исчезнувший оставил ей сына, а сопернице ее — лишь пустое, бессмысленное, безнадежное ожидание. Ей вдруг стали неприятны собственные ненасытность и неблагодарность, но эти два в высшей степени человеческие чувства не ослабили, а, напротив, усилили в ней ощущение превосходства, так как вся сущность любви впервые в эту минуту стала ей ясна; до этого, оказывается, она ничего в этом не понимала или понимала не больше, чем другие, которым до ее любви не было никакого дела; а она-то именно их и старалась все это время расположить к себе! И огорчало ее как раз то, что должно было радовать и смешить, потому что она была не брошена, а лишь оставлена для дела, предоставлена самой себе для уединенного труда; она, оказывается, выращивала под знойным солнцем любви, на пустынном ее поле хлеб любви — быть может, совсем немного, одну лишь горсть, но все же достаточно для того, чтобы другие, несчастливые в сравнении с ней, оставшиеся без любви, думали о любви, хотя бы с завистью, со злобой, несправедливо; чтобы они не забывали ни на минуту о ее существовании, чтобы у них вечно маячила перед глазами одинокая труженица, упорно, в поте лица и в мучениях возделывающая крохотную ниву, выращивающая горсточку зерна любви, о которой они давно уже не имели больше понятия; и, однако, вид отравленных хлебом, испеченным из этого зерна, все еще возбуждал их и доставлял им определенное наслаждение, единственно доступное пораженным бессилием и поэтому постыдное, тщательно, надежно маскируемое черной вуалью и старческим равнодушием. Вот чем обладала, оказывается, Нато, не зная об этом; ребенок, рожденный в муках беспочвенных, нет, не беспочвенных, а смехотворных, недостойных сомнений, страха, стыда, висел на ней, как колокольчик на шее у коровы, чтобы корова не отбилась от хозяина, не затерялась среди других коров, чтобы ее вовремя встретили, открыли перед нею ворота — а между тем она была отмечена любовью, видевшей в ней свой образ и труженика на своем поле, — любовью, которая при всеобщем признании перерастает в обычный, естественный союз, единение плоти мужчины и женщины, но при непризнании, неприятии оказывается недоступной, неприкосновенной, как божество, вожделенной и внушающей зависть даже тем, кто не приемлет и отвергает ее. Однако для того чтобы Нато поняла тогда все это до конца, для того чтобы она изведала в полной мере это болезненное, мучительное, щемящее душу и когтящее сердце, но в то же время наполняющее блаженством, легкостью, покоем и гордостью чувство, требовалось нечто большее, чем то, что ей довелось испытать до тех пор; большее, чем первая решимость, первый смелый — очертя голову — шаг, внезапно преодоленная стыдливость и вызванное собственной наготой мгновенное, приятно будоражащее удивление. Для того, чтобы Нато постигла все это, Гела должен был исчезнуть бесповоротно, и сама она должна была умереть в его комнате, на глазах у его матери, ибо та Нато, которой было не под силу все это постичь, не имела и права на существование. А взамен прежней Нато в той же комнате, под взглядом матери Гелы, должна была родиться новая; вернее, не сама родиться: мать Гелы, иссохшая, как смерть, лишенная плоти, как смерть, женщина, должна была создать, слепить новую Нато из сумрака комнаты, стакана с обломанным краем, черной кошки и, главное, из своего безумия, жестокости, одиночества и заброшенности; глупенькую, простодушную, восхищенно заглядывающуюся на других девочку она должна была превратить в чудище, подобное ей самой, только немного хуже, немного сильней, немного жизнеспособней, так как она сама уже ничего не могла принести на жертвенник любви, — даже наследие, оставшееся от ее сына, не она, а другая держала на руках. В чем-то она ошиблась, чего-то не рассчитала и не измерила и поэтому сидела сейчас обманутая, угрюмая, с суровым, каменным лицом. Нет, здесь Нато больше нечего было делать; чем быстрее она убралась бы отсюда, тем лучше было для нее самой и для ее сына. По сравнению с ее бедой замшелая беда госпожи Елены не заслуживала внимания — хотя бы потому, что эту беду уже ничем нельзя было отягчить, тогда как беда Нато еще только начиналась. Вдруг часы-амур прозвенели отрывок веселой мелодии, и Нато от души рассмеялась, словно хозяйские часы звенели только для того, чтобы удивить и позабавить ее и ее сына. «Послушай, послушай, как часики играют, — сказала она Андро. — Ла, ла, ла, ла, — подтянула она часам. — Замолчи! — прикрикнула она вдруг на ребенка, как будто это он своим плачем портил все дело, как будто из-за своего рева не нравился он бабушке и как будто имело еще какое-нибудь значение, признает или не признает своим внуком ее сына госпожа Елена. — Не думайте, что я плохой мальчик, бабушка, я, наверно, испачкал одеяльце, потому и плачу. Да, да, пойдем, пойдем. Не оставлю же я тебя здесь! — продолжала она обычным голосом и посмотрела на госпожу Елену с улыбкой, как посмотрела бы в такую минуту на любую женщину, без всякой задней мысли, просто как на «свою», в силу обоюдного владения материнским языком, в силу одинаковой с нею природы. — Перестань! Перестань! — крикнула она снова, и глаза у нее наполнились слезами, захотелось почему-то плакать, смутное, непонятное сожаление неожиданно овладело ею. — Замолчи, а то брошу тебя кошке. Вон, видишь, какая умная киска у госпожи Елены. Киска, киска!» — позвала она кошку дрожащим, срывающимся голосом. «Нато!» — хрипло выдохнула госпожа Елена. «Оставьте в покое Нато. Все оставьте в покое», — огрызнулась Нато и, устыдившись своей резкости, в замешательстве вылетела из комнаты вместе со своим сыном. После этого Нато ни разу больше не приходила к госпоже Елене, не сообщила ей о том, что была вызвана в полицию, и тем более о том, что сама освободила ее от обязанностей бабушки; Нато с трудом сдерживалась, так у нее чесался язык, так ей не терпелось рассказать госпоже Елене обо всем происшедшем в полиции, так хотелось посмотреть, какое та сделает лицо, когда Нато вскользь, между прочим скажет ей: «Можете быть спокойны, больше вам не о чем волноваться, полиция уже выяснила, что ваш внук не ваш внук и, значит, вы не бабушка вашего внука». Впрочем, если она удерживалась, если сопротивлялась почти неодолимому соблазну, то лишь потому, что внезапно, бездумно родившаяся, сумасшедшая выдумка ее не была подкреплена ничем; и вовсе не было исключено, что последствия этой выдумки обрушились бы на ее же голову и ее обвинили бы уже не только в распутстве, но и в вымогательстве, поскольку она, собственно, не имела никакого основания рассчитывать, что Саба Лапачи так же запросто подтвердит ее слова, как запросто поверил ей полицмейстер. Поверил? Правда, Нато больше не вызывали, оставили ее в покое, но могло ведь быть, что в полиции дожидались возвращения Сабы Лапачи, чтобы от него узнать правду или чтобы с его помощью разоблачить ее ложь, после чего уже не только полиции, но и госпоже Елене гораздо труднее было бы установить истинное происхождение Андро; а стоило госпоже Елене хоть на мгновение допустить, что Андро не был ее внуком, как Нато утратила бы ощущение превосходства над ней, поскольку борьба с госпожой Еленой вообще потеряла бы смысл, и признание или непризнание с ее стороны не имели бы уже значения. И в результате Нато оказалась бы обманутой. Ее замысел сам по себе ничего не решал и не значил; важно было, как посмотрит на все это Саба Лапачи. Так что хотела Нато или не хотела, понимала или не понимала, но выбор ее сам собой склонялся в сторону Сабы Лапачи, и она постепенно, незаметно сворачивала с пути любви на путь коварства, по которому подобало ходить не легкомысленным, подчиняющимся лишь голосу чувства девчонкам, а бывалым, искушенным, остепенившимся женщинам. Вернее, путь этот мог превратить легкомысленную девчонку в остепенившуюся женщину, даму. Да, даму! Если Нато желала ходить, как госпожа Елена, с поднятой головой, если она хотела свести счеты с госпожой Еленой, как равная с равной, то у нее не было иного пути, она должна была поступить так, как поступила: всучить Сабе Лапачи то, что вытянула у Гелы, так как лишь после этого она обрела бы звание супруги и матери и подобающее им достоинство и уважение. Любовь давала ей превосходство, позволяющее возвыситься лишь в своих глазах. Это, видимо, хорошо понимала госпожа Елена и потому оставляла Нато одну лишь любовь, не признавая ее ни супругой, ни матерью, — чтобы всегда стоять выше ее в глазах пошляков, почитающих лишь кличку, лишь звание и ни во что не ставящих чувство, которое вызывает своей смелостью, своей прямотой лишь подозрительность и недоверие, как назойливая цыганка, которой если и протягивают руку для гадания, то лишь прикрывая другою карман, чтобы гадалка, не ровен час, не залезла туда; и вообще внушает страх босоногая и простоволосая колдунья… или божество; а может быть, божество, обернувшееся колдуньей, изгнанное из храмов, отвыкшее от пьедестала, вызывающе, с оголенной грудью плывущее по улице, покачивая изогнутым станом и гордо неся на руках грязного, как щенок, непоседливого ребенка, — свидетельство свободы, символ таинственного, священного, беспорочного зачатия, величайший из гербов, знамен, гимнов… Но Нато обрела свидетельство на свободу раньше самой свободы. Так что свидетельство оказалось фальшивым. Нет, напротив, ей нужно было как можно скорее превратить его в подложное, чтобы оно приобрело силу документа. И, не произведя подлога, она не могла никому его показывать, так как ее немедленно обвинили бы в издевательстве над честью, порядочностью и свободой других — и вполне возможно, что даже побили бы камнями. Кроме того, получить право ходить с поднятой головой, подобно госпоже Елене, она могла лишь поправ свободу, а не поддавшись ей. Не гадалка-цыганка, а госпожа Елена была образцом для Нато. Поэтому Нато должна была с помощью Сабы Лапачи раз и навсегда смыть с себя пятно дерзкой, неотесанной, бесстыжей любви и не стлаться под ноги людям, жаждущим ее унижения или даже ее уничтожения, а оставить их с носом. Вступаешь в бой ведь необязательно для того, чтобы пасть в бою! Да и от чьей руки и ради чего? Быть убитой равнодушием — на потеху глазеющим? Да это было бы, наконец, просто стыдно; никто не удостоил бы ее жалости, и все, все подняли бы ее на смех. Правду говорит отец Нато: человечество исчерпало себя, наступили сумерки человечества, и сегодня рассчитывать на благородство и порядочность — все равно что выйти с каменным топором и луком против пулеметов, пушек и аэропланов. Сегодня побеждает тот, кто лучше вооружен и более беспощаден. Не тот заслуживает сегодня уважения, кто подставляет обидчику другую щеку, а тот, кто требует ока за око и зуба за зуб. Так, нескончаемо и настойчиво, оправдывалась Нато перед воображаемыми «мужьями», перед своей любовью и перед плодом своей любви. Но порой, неожиданно проснувшись среди ночи, она подолгу сидела в постели и зачарованно глядела на окно, через которое лился в комнату медлительный, обильный поток расплавленного лунного света; из теплых золотистых волн его вновь с первозданной живостью рождалось все то, что казалось ей уже умершим, что она считала или хотела считать умершим. Впрочем, этих ночных бдений было совершенно недостаточно, чтобы вызволить ее из плена замысла. Недостаточно было и того, что ее ничто, ничто не связывало с Сабой Лапачи, кроме ею же выдуманного, высосанного из пальца, наивного, глупого, дерзкого замысла, о котором сам Саба Лапачи пока еще ничего не знал (так по крайней мере казалось Нато); и еще неизвестно было, захочет ли Саба Лапачи стать спасителем Нато, не сочтет ли себя слепым орудием для осуществления чьих-то низменных намерений. Но не это тревожило Нато — ее волновало, распаляло, сводило с ума само существование такого оружия, и она жаждала только одного: опередить полицию, первой завладеть этим оружием, если, разумеется, Саба Лапачи вернется с войны невредимым. Она и не заметила, как у нее обратилось в привычку стоять перед домом, где жил Саба Лапачи. На товарной станции с пронзительными свистками носились паровозы, стрелочники с красными, желтыми, зелеными флагами перебегали с одних путей на другие. Из духана доносились пьяный гомон и песни. Какой-нибудь прохожий напускался на нее: «Чего тебе здесь надо, что ты здесь стоишь?» Или пьяный, остановившийся у стены, делал ей знаки, подзывая ее: «Иди сюда, смотри, что я тебе покажу!» А она, затаив дыхание, смотрела на окно Сабы Лапачи, смотрела до тех пор, пока не убеждалась еще и еще раз, что в комнате за этим окном не замечается никаких признаков жизни. Так она стояла и машинально повторяла в уме слова доносившейся из духана песни, борясь с собой, чтобы преодолеть чувство страха и стыда, чтобы не обращать внимания на всех проходящих мимо и неизменно считающих своим долгом остановиться, заговорить с нею, осведомиться, зачем она тут стоит, кого дожидается, не желает ли посидеть в духане, не нужно ли ей чего-нибудь. А она стояла, стиснув зубы от страха и напряжения, и, чтобы не отвечать не приставания, не сорваться и не ввязаться в перебранку, чтобы не опускаться до уровня всех этих пошляков и пьяниц, повторяла слова вырывавшейся из духана песни — повторяла, еле шевеля дрожащими губами, полная ярости и готовая заплакать. «Свечка догорает. Свечка догорает. Свечка догорает. Молодой мальчишка вор, эх, мамочке на горе помирает, — твердила она исступленно, со злостью. — Молодой мальчишка вор у мамочки родимой помирает», — повторяла она без конца, вторя голосам в духане, доносившимся через приоткрытую дверь. Но ни разу не призналась себе, что, дожидаясь Сабы Лапачи, она тем самым примирялась с гибелью Гелы, так как возвращение Сабы Лапачи нужно было ей только для того, чтобы тот заменил Гелу, назвался ее мужем и отцом ее ребенка. Но в самом ли деле это был единственный выход? В самом ли деле ее сына подстерегала смертельная опасность? Только ли о сыне она заботилась? Или существовала и другая причина, понуждавшая ее не просто оправдывать, но и утверждать, усугублять то, что она совершила под действием страха? «Какие глупости приходят мне в голову!» — сердилась она на себя, заглушая в своем сознании возможные возражения против замысла, но по мере того как шло время, ей становилось все ясней, что взбунтовалась она для защиты, в первую очередь, своего самолюбия, а не своего ребенка. Что, в конце концов, могла сделать полиция плохого ее сыну? Арестовать его? Сослать? Расстрелять? Разумеется, нет. Уж настолько-то ее отец знал законы. Просто над Андро уже с этих пор установили бы наблюдение, чтобы, как сказал ей сам полицмейстер, вовремя подрезать ему крылья, если в нем разовьются наклонности его отца и он, не удовлетворившись предназначенной ему судьбой гуся, захочет быть лебедем. Только и всего. Называться сыном Гелы не было опасно, зато постыдно было называться его женой, так как, прежде чем Геле удалось бы доказать свою невиновность, должно было утечь много воды и до тех пор Нато и всем ее близким пришлось бы, по словам ее отца, набрать в рот воды и заискивать перед каждым встречным. Но и это не было главным. И это стерпела бы Нато ради своей любви, если бы хоть кто-нибудь на свете понимал и ценил эту любовь; но та, от кого Нато в первую очередь могла ожидать понимания и благодарности, вместо этого лопалась от зависти и считала Нато соперницей, оспаривающей ее права, пристраивающейся к ее славе и величию, соперницей, а не соратницей, не наследницей ее беды и продолжательницей ее несчастья. Да, да, больше всего приводило Нато в бешенство то, что госпожа Елена оказала ей пренебрежение, не сочла ее достойной себя, и когда Нато отреклась в полиции от настоящего отца Андро, она делала это не ради спасения сына, как думала тогда (и как притворялась перед собой теперь), а назло госпоже Елене, как бы говоря ей и тогда, и сейчас: «Раз вы меня отвергаете, так вы мне и не нужны, и вовсе я не набиваюсь вам в невестки». Ложь, которая случайно, благодаря страху и неопытности, родилась в кабинете у полицмейстера, постепенно приобрела совсем иное значение и превратилась в поистине ужасное оружие в руках униженной пренебрежением, оскорбленной женщины; а раз оружие существовало, то обладательница оружия не могла не пустить его в ход; наличие оружия с неизбежностью обусловливает его применение на деле; такова природа оружия, и природе этой прежде всего подчиняется его обладатель. Нато не была исключением; вернее, она была не менее несчастна, чем другие, и готова была применить любые меры и усилия в своей войне против той, которая неуважительно отнеслась к ее беде и понадеявшись на которую она вообще стала несчастной. Ее не остановило бы и то, что применение этого непривычного и страшного оружия могло принести ей самой больший вред, чем ее противнице. Для того чтобы задуматься об этом, Нато должна была сперва увидеть к