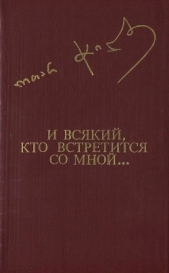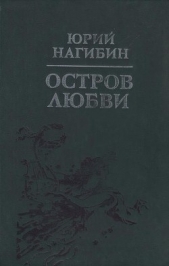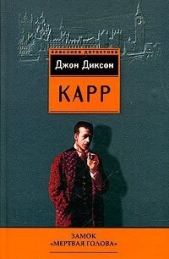Железный театр

Железный театр читать книгу онлайн
Талантливый грузинский поэт Отар Чиладзе последние годы плодотворно работает в жанре прозы. Читателю известны его романы «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной». «Железный театр» — новый роман О. Чиладзе.
Роман О. Чиладзе «Железный театр» удостоен в 1983 году Государственной премии Грузинской ССР имени Руставели.
Переводчик романа Э. Г. Ананиашвили — лауреат премии имени Мочабели.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Там репетиция, — сказала госпожа Елена.
«Я добьюсь того, что совсем ей опротивею», — подумала Нато. И она не ошиблась. У нее было слишком мало знания жизни и опыта, чтобы вовремя сдержаться, отступить в разговоре или, напротив, вовремя сделать шаг вперед. Она лишь сидела и щебетала как птица, вернее — как избалованный ребенок, которого родители заставили выучить наизусть стихотворение и который бездумно лепечет вызубренные слова, а смысла стихов не понимает. Не думала Нато, что ей понадобится столько говорить; она была уверена, что при первом взгляде на нее госпожа Елена обо всем догадается и, вместо того чтобы глядеть насупясь, растроганно прижмет ее к сердцу: «Спасибо тебе, вот это любовь так любовь, спасибо за то, что воскресила… что возвратила мне сына». Ничего похожего не случилось. Госпожа Елена хмурилась или глядела в окно, и Нато волей-неволей болтала всякий вздор — бестолковый и бессвязный. Недогадливость госпожи Елены — настоящая или мастерски разыгранная — приводила ее в замешательство, обескураживала ее. Госпожа Елена втягивала ее в эту игру, заставляла болтать без смысла о всевозможных пустяках, делать вид, будто ей не о чем больше и говорить, будто она ничего другого и не собиралась сказать. Словно это «другое» не заслуживало внимания и словно она столько говорила для того, чтобы обойти это «другое», завалить его обвалом слов, а не для того, чтобы как раз относительно этого «другого» добиться определенности. «Не надо было приходить сюда. Ни в коем случае нельзя было приходить», — думала Нато с обидой. Где-то опять хлопнула дверь. Нато вздрогнула. А госпожа Елена внезапно с тягостным чувством осознала, как глубоко в ее владения вторглась эта маленькая захватчица, которая отнюдь не слепо, отнюдь не без плана, не наудачу посягала на чужую собственность, а, напротив, все заранее продумала, рассчитала и твердо определила, какие препятствия ей следовало устранить и на что она могла опереться на пути, ведущем к завоеванию «чужой собственности». Снисходительной улыбки и удивленно вздернутых бровей было явно недостаточно, чтобы бороться против этой неукротимой, настойчивой наглости, не желавшей считаться с разницей в возрасте и отвергавшей правила женской войны. «Все уничтожено, все осквернено, в самом деле пора этому миру превратиться в развалины», — думала госпожа Елена в сердцах. Но чему она, собственно, удивлялась и по какому праву сердилась на Нато? Разве она сама не была такой же гораздо раньше? Вернее, разве не она первая взбунтовалась против веками установленных законов и правил? Правда, она была наказана за это, но зато стала примером для Нато и подобных ей девчонок, так как для них главное — не последствия подобного шага, а сознание того, что такой шаг вообще возможен и дозволен. Но когда госпожа Елена в тот давний день спешила к общежитию, повторяя раздраженно и упрямо: «Кончено. Довольно. Я в своем праве», — то поступала она так не для того, чтобы стать примером для кого бы то ни было (это совершенно не интересовало ее ни тогда, ни позже), а потому, что была полна сознания своей избранности, исключительности, единственности, для утверждения которой, как это вскоре выяснилось, намеревалась вступить на самый старый, избитый, почти одинаково для каждой женщины обязательный путь, чего не могла впоследствии простить ни самой себе, ни тому, кто за этой избранностью, исключительностью и единственностью увидел лишь движимую страстью, чувственную женскую плоть, которую он не покорил, как неприступную крепость, а получил запросто, самым будничным образом, как участок для усадьбы, как земельный надел для освоения, так что от всей избранности и исключительности не осталось следа. Вот почему всякий раз после супружеской близости она еще больше отдалялась от мужа, делалась еще более непроницаемой, недоступной, глухой, бесчувственной, опустошенной — как оставленная защитниками крепость, овладение которой наполняет завоевателя не радостью, а тревогой, ибо не свидетельствует о покорности, о признании поражения обороняющимися, а скорее вызывает подозрение о возможных его коварных замыслах. «Не понимаю! Убей меня — не понимаю!» — твердил в замешательстве ее муж; а она лежала, отвернувшись к стене, разбитая, измученная своей в который раз блестяще разыгранной холодностью и бесчувственностью, и думала со злостью и с блаженством: «Не воображай — раз я пришла к тебе сама, по своей воле, что так уж и валяются на каждом шагу «сосцы лучше вина» и «чрево, как ворох пшеницы»!» Жена попрекала мужа тем, что снизошла к нему, — мужа, виновного только в том, что он вверг себя в вечное рабство, чтобы оправдать минутную необузданность — или минутную слабость — своей жены. А вышло все так потому, что бог создал ее попирательницей любви — любовью, ниспослал ей дар любви и дар попирать любовь, как птице — дар полета, рыбе — дар плавать и змее — дар ползать, и одним лишь этим избрал и выделил ее среди прочих. Да, только этим и ничем больше. Вот он, ее герб, знак ее избранности, исключительности, единственности: зонтик и темная вуаль, символ неприкаянности и одиночества, а не реклама зонтиков и вуалей, не образец, который могла бы перенять, повторить какая-нибудь Нато, любая Нато. И к тому же от нее потребовалось столько жертв, чтобы обрести право всенародно носить и показывать его, этот герб, — и, конечно, она не могла ни с кем разделить это право, не могла никого поставить рядом с собой на пьедестале избранного, исключительного, единственного несчастья и ни с кем не могла поделиться тем леденящим кровь, тираническим чувством гордости, которое наполняло ее, когда встречные на улице, всполошившись и понизив голос, возбужденно переговаривались: «Это она. Это ее муж покончил с собой». И вот какая-то девчонка, у которой еще молоко на губах не обсохло, врывается к ней и заявляет: «Позвольте мне вести себя с вашим сыном так, как вы вели себя с вашим мужем». Муж — это одно, дурочка, а сын — другое. Только когда поймешь разницу между ними, ты вступаешь в жизнь. До тех пор ты спишь, спишь глубоким сном, без сновидений. До тех пор тебя даже не интересует, а есть ли мать и у твоего мужа; и если есть, то что она думает о тебе, хвалит тебя или бранит, проклинает или благословляет? Ты пока еще спишь, но она, свекровь, все же вторгнется в твой сон, разбудит тебя — только для того, чтобы показать тебе твою бессовестность, твою низость, твою неправоту. Больше ей ничего не нужно. Разбудит и уйдет. Исчезнет. Ты даже не сможешь толком выяснить, приходила ли она в самом деле или почудилась, приснилась тебе. Пришла ли она откуда-то из внешнего мира или родилась из твоего собственного существа, как сыр из молока. Вот почему старалась госпожа Елена оставаться до конца равнодушной и неприступной перед лицом этой выдуманной Нато (быть может, даже назло ей), высосанной Нато из пальца заботы; не ставить себя на равную ногу с ней, соблюдать достоинство, как волкодав перед комнатной собачонкой, как почтенная свекровь перед ничтожной невесткой; так она сохраняла в глазах Нато хотя бы превосходство, даваемое ей возрастом, утратив которое она уже не могла бы так снисходительно улыбаться, не могла бы слушать хотя бы с притворным, принужденным вниманием и вообще выносить эту назойливую девочку, к которой, правда, она еще не испытывала ненависти, но которая всегда раздражала ее, как поэта — подражатель, с нетерпением дожидающийся только одного: когда же его признает, объявит поэтом его кумир, и не слушающий советов и замечаний, не понимающий, как он смешон и в какое неловкое положение ставит своего кумира, когда беззастенчиво улыбается ему, как бы говоря: «Как может такой человек, как вы, порицать другого за то, чем он прославился сам». И госпожа Елена сидела и терпеливо слушала. Слушала, терпела эту нескончаемую болтовню, этот вздор, при помощи которого Нато старалась стать с ней на равную ногу, искала фамильярности, панибратства и взамен своей искренности и откровенности требовала от нее того же. Она явно была дурочкой или попросту нахалкой. Но, к счастью, госпожа Елена пока еще не утратила способности сдерживаться или, вернее, умела скрывать свое истинное лицо. Недвижная маска закрывала ее черты — безжизненное изображение внимания и участливого любопытства, бескровное, бесцветное. Недаром же она работала в театре! Впрочем, чему там особенному научил ее театр, — гораздо большему научилась она от своей свекрови, притом не за долгие годы, а всего за полчаса, так как только один раз и только в течение получаса видела она свою свекровь, приехавшую в Тбилиси по совсем другим делам: она была вызвана в суд свидетельницей по делу своих соседей; но и за полчаса госпожа Елена получила исчерпывающий урок того, как следует себя держать в самые трудные минуты с самыми ненавистными (наверно!) людьми, чтобы они не исполнились ответной ненавистью к тебе, а почувствовали свое ничтожество и, подавленные твоим величием, твоим достоинством, твоей божественной непреклонностью и столь же божественной снисходительностью, кусали себе в ярости руки, и язвили, и жалили друг друга, друг на друге срывали свою бессильную, жиденькую, тщедушную, беспомощную злобу. И не потому свекровь вдруг нежданно, без предупреждения, заявилась к ним на полчаса, что искала утраченное, — а просто хотела краешком глаза глянуть на ту, которая поставила точку всем ее ожиданиям и надеждам; ее интересовала причина гибели своих ожиданий и надежд, которая прежде всего помогла бы ей примириться с этой гибелью, как помогает примириться со смертью близкого человека диагноз, окончательно установленный после вскрытая. Но, в отличие от невестки, она не только внешне держалась с достоинством — нет, ее невысказанная и искусно замаскированная воля направляла все, что делалось или могло делаться вокруг нее в течение этого получаса. А между тем ни на ком и ни на чем не задерживался долго ее взгляд; никому ни о чем она не задавала вопросов, но ни одного вопроса не оставила без ответа. Выпрямившись, сидела она на стуле в большой зале — не так близко к столу, чтобы смешаться с остальными, но и не так далеко от стола, чтобы совсем отделиться от остальных. Словно и была, и не была вместе с ними: была — как гостья, и не была — как родственница. Со спокойным, но горделивым, даже чуть вызывающим видом сидела она, как святая среди прокаженных, как царица на троне, как мать возле гроба недостойного сына. При всей скромности и простоте заметная, бросающаяся в глаза в своем бумазейном платье в цветочек, в черных чулках и блестящих остроносых калошах. Спокойно, неторопливо, как бы между прочим, рассказывала она, как кто-то у кого-то во дворе срубил черешневое дерево; как хозяин черешневого дерева забил в отместку у своего обидчика стельную корову и как в конце концов набросились друг на друга владелец черешневого дерева и срубивший черешневое дерево; по глупости, по неразумию довели себя до суда и тюрьмы, стали предметом для пересудов целого города, где бесплатно никто ни с кем даже не хочет здороваться и где из жадности, из любви к деньгам женщины забыли женскую честь, а мужчины — мужскую. Но невестку нисколько не интересовали все эти деревенские страсти; ее злило то, что свекровь — была ли она участницей или только свидетельницей соседской свары («срамоты», как она сама ее назвала) — всячески старалась подчеркнуть, что приехала не к новой родне, не с целью повидать сноху да сватью со сватом, а просто воспользовалась пребыванием в городе и заодно решила заглянуть к ним, как будто было зазорно и унизительно для нее или кто-нибудь потребовал бы от нее плату, если бы она только для этого приехала из своей деревни, а не стала дожидаться, пока городская «порча» не захватит и сельские места и ссора из-за срубленного дерева не перерастет в кровопролитие. «Не понравилась я ей. Не нравлюсь», — думала невестка, сердясь на себя, так как никогда и вообразить не могла, что ей так мучительно, так безнадежно захочется понравиться именно этой простой деревенской женщине в бумазейном платье. «Вот и Нато сегодня — как я тогда», — горько улыбнулась она. Вспомнила, как подлещивалась, как подсыпалась к свекрови, как силилась наверстать упущенное, не принятое во внимание, не предусмотренное с самого начала, и все это за полчаса; как старалась все время оставаться в поле зрения свекрови в надежде, что та о чем-нибудь спросит ее или даст ей какой-нибудь наказ; но для деревенской женщины все здесь были на одно лицо, неотличимы друг от друга, как люди другой расы, и это положение свекрови на полчаса или, вернее, сознание своего поражения давало ей право не выделять никого из семьи главного судьи губернии, а осудить — или простить — всех вместе, чохом, не разбирая. А они, победители, вызывали друг друга из комнаты и совещались на кухне озабоченно, вполголоса о том, где лучше поместить на ночь гостью, чем оказать ей уважение, как завоевать приязнь и благоволение побежденной. Но та уже стояла на ногах, готовясь уйти, и одергивала рукава бумазейного платья, чтобы закрыть загорелые дочерна запястья. Когда же ей сказали: «Куда вы, останьтесь на ночь у нас, отдохните», — она ответила с улыбкой: «Спасибо, но я не могу задерживаться, моя глупая коза, наверно, все глаза проглядела, меня поджидаючи». Поезд уходил лишь наутро, все понимали, что ей предстояло просидеть всю ночь на скамье в вокзальном зале, но никто не осмелился возразить ей или хотя бы поехать с нею на вокзал — ни сын, ни невестка, ни сват со сватьей, ни Лиза; победители не решились отнять у побежденной добытые поражением трофеи, не посягнули на ее гордость, помогавшую ей переносить обиду поражения, и, к их чести, сразу почувствовали, что было бы еще более некрасиво увязаться за нею и смотреть, как она входит в зал ожидания ночного вокзала — одинокая деревенская женщина, оробелая, оглушенная непривычной суетой большого города и чуждыми, непонятными ей городскими правилами и нравами; как с показным и поэтому подозрительно бросающимся в глаза равнодушием направится в самый дальний, укромный, пустынный угол зала; как, перед тем как сесть, расстелет на грязной скамье носовой платок и, сбросив блестящие остроносые калоши, поставит на них дрожащие от перенесенного волнения ноги — простая, обыкновенная деревенская женщина, превратностями судьбы и извечной борьбой против судьбы превращенная в некий символ ожидания и одиночества, не сохранившая в жизни ничего, кроме одной козы. «Вот и я сегодня — как моя свекровь тогда», — снова горько улыбнулась госпожа Елена, и снова ей не захотелось отмахнуться от этих болезненных воспоминаний. «Моя мать сидит на вокзале… Я осудил ее на долгую ночь в зале ожидания», — волновался ее муж, но, вместо того чтобы броситься вдогонку за матерью, упасть ей в ноги и вернуть ее или вместе с нею дождаться поезда, который увез бы обоих на волю, к родной земле, к родному небу, к родному очагу, вокруг которого собирался, возвращаясь с поля, из виноградника, с мельницы, из леса, из-под дождя, пока еще не развращенный, пока еще верующий в бога и в дьявола, пока еще всей плотью и кровью сросшийся с героями сказок народ; вместо того чтобы поспешить на вокзал, он отчаянно цеплялся за жену, лежа с нею в пышной белоснежной постели, как утопающий хватается за соломинку, как увязший в болоте хватает воздух, как будто не от матери, а от жены оторвался, отломился он и теперь старался снова и уже навечно прикрепиться, прирасти к ее телу. Но мужчина, как бы он ни был слаб, раз сама природа повелевает ему при выборе между матерью и женой всегда предпочитать жену, наделен способностью превращать жену в мать, что само по себе представляет собой своеобразный путь к мести, ибо только так может он открыть глаза ослепленной легкой, доставшейся почти без труда, заранее обеспеченной победой жене, только таким путем может он заставить жену испытать в свою очередь горечь измены сына, утраты отвернувшегося сына. Снова встряхнула она головой, на этот раз — чтобы отстранить напряженный, испытующий взор свекрови, суровый, но правдивый и чистый, как страница летописи, листаемой бережно и глубоко поучительной, потому что она описывает не дворцовые церемониалы, а разрушенные, покинутые, безлюдные палаты и обители, древние, разоренные обиталища души и разума страны. «Будь довольна. За все взыскал с меня той же монетой господь. Все, что посеяла, пожинаю я на своем пути», — говорила она в уме свекрови. Где-то опять хлопнула дверь. Опять раздался женский смех, но не рассеял, а как бы еще больше сгустил царившую в театре тишину. «Репетиция скоро закончится», — подумала госпожа Елена и взглянула на свою гостью.