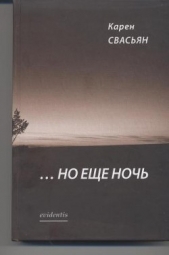Советская морская новелла. Том 2

Советская морская новелла. Том 2 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я писал тогда «Удивительные приключения мухумцев» и читал «Историю философии». Если бывала сельдь, работал часа два на палубе. Время от времени делал кое-какие записи. Страница, исписанная 5–6 июля, выглядит так:
«Три года ходил в сельскую школу, да и то два из них — был в парше» (об одном деятеле).
«Речь Мурки в Кадриорге на районном собрании комнатных собак» (Характеристика судовых и сухопутных псов).
Затем случайная строфа:
У помощника мастера лова
борода что метла, вот вам слово!
Я же, скромный поэт, для начала
отпустил лишь усы что мочало.
«Ветер в грудных реях воет…» (О хлипком человеке).
«Всегда находят то, чего не ищут. Выражение это слишком верно, чтобы в один прекрасный день стать пословицей» (Бальзак).
Конечно, эти записи отнюдь не являются достоверным отображением тогдашних моих интересов и настроений. Но вот в конце попадаются две-три строчки, которые сейчас едва можно прочесть:
«Внимание! Стаи сельдей появились на поверхности! Совсем на поверхности! Рыбы выпрыгивают из воды. Настроение тревоги. Их миллион. Демин ругается. Запас слов у него обогатился в полтора раза».
Стаи сельдей появились на поверхности! Редкий, необыкновенный случай! Даже наш мастер лова Демин, плавающий по океанам уже лет двадцать, видит такое лишь второй раз в жизни. И сейчас я пытаюсь восстановить в памяти, как все это было.
Пятого июля утром рыбы попадалось мало. Кроме того, в этот день было чертовски тяжело выбирать сети на палубу. Ветра и в помине не было, но по океану ходила давняя зыбь, хаотическая и очень сильная. Даже не замечаешь, как на воде возникает холм — плоский, лишенный определенных очертаний и проведенных ветром нарезов. Вдруг он появляется у борта, вздымается над ним, обрушивается на палубу, и неподвижное, менее устойчивое, чем на ходу, судно резко накреняется на 25–30 градусов, а скользящих людей бросает на стальные поручни. Хуже нет, когда тебя так швыряет.
После обеда мы снова двинулись на норд-вест. Шли мы примерно со скоростью в десять узлов. К вечеру зыбь утихла, и я впервые увидел океан зеркально-гладким, неправдоподобно светлым. Он был и молочным, и в то же время серебристым. Бескрайняя величественная гладь излучала интенсивный, до боли яркий свет. Казалось, этот свет отрезает нас, полностью изолирует от остального мира. Он проникал сквозь бычьи глаза иллюминаторов, и его круглая струя резко выделялась в полумраке кают, словно светящаяся балка; проходя под ней, хотелось невольно пригнуть голову, чтобы не ушибиться.
Как моноскоп, так и эхолот, которые на судне включали время от времени для поисков сельди, показывали, что у нас под килем рыбы нет. Лишь изредка на зеленом экране моноскопа вспыхивало похожее на гриб изображение, вызванное прохождением стайки сельдей (или медуз?), о которой сообщала в то же время и красная молния эхолота. Но происходило это так редко и нерегулярно, что сетям не было смысла мокнуть в этом квадрате. В половине одиннадцатого вечера мы еще продолжали плыть. Ничего не менялось — такой же молочный, лишь менее яркий свет, полное безветрие и безупречно отшлифованное зеркало океана. Эхолот и моноскоп безжизненно пялились на нас и ничего не отмечали.
Наконец — это было в одиннадцать — капитан передал бинокль вахтенному штурману и сказал:
— Погляди-ка! Соображаешь?
И одновременно перевел ручку телеграфа на «стоп». Винт перестал вращаться, и траулер плыл теперь лишь по инерции.
Мы в прямом смысле слова попали в кашу — в кашу из сельди. Слабая рябь на воде была вызвана не поднимавшимся ветром, как мы сперва подумали, а стаями сельди, всплывшей к поверхности. Всюду, куда хватал глаз, неторопливо перемещались эти стаи, оставляя на светлой глади океана темную рябь, похожую на весенние разводья. Сельдь пересекала наш курс перед самым носом судна, проплывала за кормой и вдоль бортов. И вдруг, словно по команде, стала выскакивать из воды.
— Вот он, этот чертов моноскоп, — проворчал кто-то, сердись на прибор, не отмечающий поверхностных косяков, тех, что плывут вровень с килем судна и выше.
Мастер лова Демин — невысокий, коренастый и кривоногий человек, который считал судно своим домом и каждое утро брился, человек с золотыми руками, огромным опытом, с блистательным, но несколько односторонним запасом эпитетов, адресуемых к тем или иным людям, и с абсолютно непригодным для суши нравом, — этот самый Демин с поразительной для своего возраста быстротой устремился на мостик. На его костлявом лице типичного помора отразилась такая напряженность, такое возбуждение, что с него почти исчезли все морщины.
— Видишь, Вайно Матвеевич! — обратился он к капитану.
— Угу!
— На сколько спускать? — спросил мастер.
— А ты как думаешь?
— От ноля до пяти, — ответил Демин.
Это означало, что сети, опускаемые зимой на глубину до шестидесяти метров, а летом, как правило, от десяти до тридцати метров, сегодня поставят на глубине от ноля до пяти метров, то есть совсем на поверхности.
Демин снова спустился на палубу. И тотчас всю команду охватил серьезный, молчаливый азарт. Выносить такое напряжение изо дня в день, наверное, невозможно, но это необычное ощущение запоминается надолго. Люди, не дожидаясь команды, заняли свои места, перебросали на сети буйки и привязали их прямо к верхнему вожаку. (В других случаях глубина погружения сети регулируется длиной специальных поводков).
— Малый вперед!
Винт заработал. Команда действовала как точный, хорошо выверенный механизм. Ни одного слишком поспешного или слишком медлительного движения. И все же из-за того, что буйки были прикреплены прямо к вожаку, две сети зацепились и затрещали. Но раньше чем эта весьма обычная беда успела случиться со следующими сетями, Демин завопил:
— Дайте нож, сапожники!
И ловким взмахом ножа порядок был освобожден. Все пошло своим чередом.
В эту светлую ночь лишь немногие из нас спали. Мы следили за буйками, которые вскоре глубоко и солидно осели в воде. Значит, рыба есть, и много! И хотя около часу ночи последние стаи сельди исчезли с поверхности и на безмолвной воде снова не было видно ни единой морщинки, все же всем нам в эту ночь лик океана казался необычайно красивым и родным. За кормой уже опустились на ночлег десятки тысяч чаек, что сулило нам хороший день.
2
Мы, эстонцы, неизбежно представляем себе моря и океаны такими же, как Балтийское море, Финский и Рижский залив и эстонские проливы. Ведь мы выросли на их берегах, ловили там рыбу и знаем, что, с какого борта ни зачерпни воды, — она везде одинакова. И в Финском, и в Рижском заливе можно потерять берег из виду; и здесь, и там волны могут стать высокими и крутыми; и в том, и в другом заливе есть немало безвестных могил эстонских матросов и рыбаков. Это море для нас свое, родное, близкое, и в воображении мы переносим его серые тона и на те водные просторы, которые на картах так заманчиво синеют.
Мы оставили позади Канарские острова и пересекли тропик Рака под 17 градусом западной долготы.
Как-то утром, выйдя на палубу и поглядев на океан, я чуть не воскликнул невольно:
— Какая пошлая мазня! Какие кричащие краски!
Океан в самом деле чем-то напоминал рыночную живопись, еще и посейчас красующуюся во многих домах. На этих картинах изображены пронзительно ультрамариновые пруды и озера. Отражение восходящего солнца перерезает картину, словно кровавый бандитский нож. Солнце, если использовать выражение Алле, похоже «на бычье сердце, на мухомор…» По озеру, пруду или заливу плывет пара лебедей с выгнутыми, как у английских рысаков, шеями. На берегу растет камыш цвета «синей прусской», кущи цвета «синей прусской» и белые цветы, вдали стоит дом с дымящейся трубой и прогуливается эстонская красавица с лицом герцогини и ножками тяжелоатлета.
Но будем справедливы к этим картинам. Увидев их в горнице приземистого домика на берегу и спросив, откуда они взялись, часто слышишь ответ: «Отец привез из Голландии» — моряки еще и сейчас привозят оттуда такие вещи — или: «Это брат достал, когда был с ребятами из Кясму в дальнем плавании». И голос говорящего звучит так празднично, в нем слышится столько уважения к «чистой половине» дома, а заодно к озеру с лебедями и деве на берегу! Картины эти кажутся красивее, когда подумаешь, что именно такими представляет себе дальние, неведомые моря и земли какая-нибудь морщинистая старушка, жена боцмана, плававшего еще на парусных судах. Эти озера и этих лебедей облагораживают и — не боюсь упрека в высокопарности — освящают те дни и месяцы ожидания, когда жены моряков смотрели на свои картины и, порой вздыхая, а порой плача украдкой, молились богу и в ультрамариновом пятне озера им виделись глаза мужа.